Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
Слово «сказка» появляется в письменных источниках приблизительно в 16 веке. Наши далекие предки именовали сказку «кощуной». В 11 веке, после крещения Руси, кощуна потеряла свой мифологический, сакральный смысл. Она получила новое название — баснь, которое продержалось до 19 века, сменившись в свою очередь известным нам названием сказки.
По содержанию, художественным образам и особенностям композиции народные сказки делятся на три большие группы — сказки о животных, волшебные и бытовые сказки.
Русские сказки наполнены образами самых различных домашних животных, зверей, птиц и рыб. В бытовых сказках они действуют и говорят, как обычные люди, им присущи положительные и отрицательные черты. Каждый образ несет определенную смысловую нагрузку: лисы — хитрые, волки — глупые, петухи — хвастливые, собаки — несчастные и добрые, коты — отважные и т. п.
Совсем другие функции выполняют они в волшебных сказках. Все они наделяются чудесными свойствами, с помощью которых становятся могучими помощниками, покровителями героя сказки, а иногда и врагами.
Свои знания о земных животных древний славянин переносил в воображении на небесные атмосферные явления. Так, свист ветра, гром молнии, тучи, застилающие солнце, снег и дождь он объяснял криком, бегом и борьбой различных небесных зверей, птиц, огненных змей.
В одних сказках животные занимает положение, равноценное человека. В других, они играют второстепенную роль, помогая герою. Большое число видов различных животных, наделенных множеством волшебных свойств, живут в сказках, влияя на судьбу героя.
Функции, которые выполняют эти животные, могут быть такими: 1.Помощники героя сказки; 2. Оборотни-друзья; 3. Вещуны; 4. Редкие звери с чудесными свойствами; 5. Враги героя; 7. Помощники врагов героя; 8. Оборотни-враги и другие.
Наиболее подробно рассмотрены исследователями только два персонажа: змей и конь.
Змей в подавляющем большинстве — основной враг. В. Я. Пропп связывает его образ с мифическим образом главного духа обряда инициации, духом-страшилищем (поглотителем), которого боятся все непосвященные.
При встрече со змеем героя поджидает опасность сна, засыпания. Змей никогда не пытается убить героя оружием, лапами, или зубами — он пытается вбить героя в землю (т.е. в грех) и этим его уничтожить. Змея можно уничтожить только отсечением всех его голов, то есть победой над своими чувствами.
В русских народных сказках змей является охранителем границы в Царство Небесное. Сама граница описывается как огненная река, называемая Смородинка («мор» — смерть, «один» — один; то есть смерть одна). Через неё ведёт мост, называемый «калиновый». Перейти через мост сможет тот, кто убьёт змея, то есть победит всю свою животную стихию.
В отличие от змея конь — помощник — друг и советчик героя, обладающий разными волшебными свойствами.
Чудесного коня в русских сказках называют например: «Сивка-бурка». Эпитет «бурый» родствен словам «буря», «буран» и означает «бурлить», «шуметь», «бушевать». В целом ряде славянских народных сказаний буйные ветры, ходячие облака, грозовые тучи, быстро мелькающая молния называются небесными конями.
Будучи олицетворением порывистых ветров, бури и летучих облаков, сказочные кони наделялись крыльями, что роднило их с мифическими птицами, а дополнительными эпитетами «огненный», «огнедышащий» награждались кони с ясным солнцем или месяцем во лбу, с частыми звездами по бокам. «Золотогривый», «золотохвостый» или просто «золотой конь» служит поэтическим образом солнца.
В некоторых сказках сам герой превращается в животное и говорит на «зверином» языке. Герой в этих сказках может стать любым животным. Если сам герой не умеет превращаться в животное, он, когда ему это требуется, надевает на себя шкуру собаки, барана, козла, быка.
Волшебными свойствами обладает и звериное молоко: волчье, львиное, медвежье и лошадиное. Оно дает герою силу, красоту, молодость, т. е„ также обладает качествами живой воды.
Повелителем животных и птиц в русских сказках выступает чаще всего Баба Яга. Одной из граней ее деятельности является власть над животными. Причем в это случае она, как хозяйка леса и животных, помогает герою. Так же в роли общелесного повелителя в сказках часто выступает дед, старик или хозяин леса — леший.
Еще одним интересным образом в сказках являются образы водоплавающих птиц — уток, гусей и лебедей. Зачастую именно утица, лебедь или гусь маркируют собой сферу сакрального в обрядовых песнях календарного цикла. Например, с иным миром гуси-лебеди связаны в известной русской народной сказке «Гуси-Лебеди».
Кроме этого, образ лебедей наши предки часто связывался с солнцем. Например, идея его движения представлялась в дневное время в виде упряжки коней, везущих светило по небу, а в ночное возницами в подземном океане выступали лебеди. Они сопровождали Бога Солнца — Даждьбога. Поэтому славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.
Особенно же широко распространены образы гусей и белых лебедей в русских народных свадебных песнях, где постоянно сравнение невесты с «лебедью белой».
Лыбедь в восточнославянской мифологии генеалогический герой, сестра трёх братьев — родоначальников племени полян: Кия, Щека и Хорива.
В русской сказке — богатырша Белая лебедь, владелица живой воды и молодильных яблок, за которыми посланы братья. Её имя могло быть преобразовано из первоначального Лыбедь под влиянием мифологического мотива превращения богатырши в птицу.
В сказаниях русского народа о девах лебединых говорилось об их особой красоте и вещей силе. Олицетворяли они дождевые весенние облака, считались дочерями Окиян-моря, обитали в водоёмах и колодцах. А полюбив кого-то, могли любую сверхъестественную задачу выполнить.
Таким образом, животные окружали древнего человека и почти никогда не были враждебны или неприятны ему. Получая от них в жизни самую реальную помощь и пользу, он в своем воображении одарял их добротой, благородством, умом и могуществом. Вера в их готовность всегда прийти на помощь помогала человеку в трудной борьбе с самыми различными препятствиями, встававшими на его пути.
Список используемой литературы:
- Белякова Г. С. Славянская мифология. — М.: Просвещение, 1995.- 239 с.
- Пропп В.Я. Исторические корни Волшебной Сказки. — М.: Лабиринт, 2002. — 332 с.
- Академия наук СССР. Древняя Русь и славяне. — М.: Наука.,1978. — 445с.
32 сказок
Дикий помещик
 В сказке Дикий помещик рассказывается о князе Урус-Кучум- Кильдибаеве, очень богатом и очень глупом. Однажды Кильдибаев решил, что с мужиками слишком много забот, и попросил Бога избавить его от них. Но Бог не внял. Тогда помещик обложил крестьян неподъемными штрафами, и к Богу обратились уже сами мужики. И вот в поместье не осталось ни одного…
В сказке Дикий помещик рассказывается о князе Урус-Кучум- Кильдибаеве, очень богатом и очень глупом. Однажды Кильдибаев решил, что с мужиками слишком много забот, и попросил Бога избавить его от них. Но Бог не внял. Тогда помещик обложил крестьян неподъемными штрафами, и к Богу обратились уже сами мужики. И вот в поместье не осталось ни одного…
про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 12 мин.)
Премудрый пескарь
 Главный герой сказки Премудрый пескарь всю свою жизнь только и делал, что боялся. Бояться его научили родители, которые благодаря осторожности не попались ни в сеть рыбака, ни в пасть хищной щуки. Много врагов у маленьких пескарей, а наипервейший враг – человек. Пескарь, помня наставления папеньки, целый год долбил себе нору. Все дни он…
Главный герой сказки Премудрый пескарь всю свою жизнь только и делал, что боялся. Бояться его научили родители, которые благодаря осторожности не попались ни в сеть рыбака, ни в пасть хищной щуки. Много врагов у маленьких пескарей, а наипервейший враг – человек. Пескарь, помня наставления папеньки, целый год долбил себе нору. Все дни он…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 10 мин.)
Бедный волк
 Смысл сказки Бедный волк в том, что право на жизнь имеет каждый, каким бы ни создала его природа. Один злющий волк всю жизнь резал скот, убивал людей, но однажды сам попался в лапы медведю. Тот решил усовестить разбойника. Но волк объяснил, что не сможет прокормиться, если не будет душегубом. Медведь сказал, что в таком случае лучший выход для…
Смысл сказки Бедный волк в том, что право на жизнь имеет каждый, каким бы ни создала его природа. Один злющий волк всю жизнь резал скот, убивал людей, но однажды сам попался в лапы медведю. Тот решил усовестить разбойника. Но волк объяснил, что не сможет прокормиться, если не будет душегубом. Медведь сказал, что в таком случае лучший выход для…
бытовые про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 10 мин.)
Баран-непомнящий
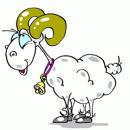 Сказка Баран-непомнящий повествует о том, что лучше жить настоящей, свободной и яркой жизнью, чем прозябать в неволе, даже если там тепло и сытно. У одного помещика жил породистый баран. Как и остальные обитатели овчарни, баран не помнил вольной жизни, которой жили его предки. Поэтому ничто, кроме еды, его не интересовало. Но вот напасть…
Сказка Баран-непомнящий повествует о том, что лучше жить настоящей, свободной и яркой жизнью, чем прозябать в неволе, даже если там тепло и сытно. У одного помещика жил породистый баран. Как и остальные обитатели овчарни, баран не помнил вольной жизни, которой жили его предки. Поэтому ничто, кроме еды, его не интересовало. Но вот напасть…
бытовые про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 9 мин.)
Богатырь
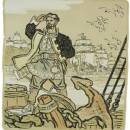 В сказке Богатырь автор намекает на терпеливость русского народа, его надежду на героя, который придет и спасет. На самом деле каждый должен нести ответственность за судьбу родины. В одном царстве вырос Богатырь. И пошел он в лес дремучий демонстрировать свою неимоверную силу, а потом забрался в дупло и заснул аж на тысячу лет. Враги между тем…
В сказке Богатырь автор намекает на терпеливость русского народа, его надежду на героя, который придет и спасет. На самом деле каждый должен нести ответственность за судьбу родины. В одном царстве вырос Богатырь. И пошел он в лес дремучий демонстрировать свою неимоверную силу, а потом забрался в дупло и заснул аж на тысячу лет. Враги между тем…
сказки про бабу ягу богатыри волшебная героическая про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 3 мин.)
Карась-идеалист
 Сказка Карась-идеалист повествует о споре между рыбами. Ерш доказывал, что невозможно всегда жизнь честно, а карась философствовал, что рыбы вполне могут жить в мире, не поедая друг друга. Ерш многое испытал на своем веку, а карась даже «щуки не видывал». Наконец идеалиста пригласили поучаствовать в дискуссии со щукой. Самоуверенный спорщик…
Сказка Карась-идеалист повествует о споре между рыбами. Ерш доказывал, что невозможно всегда жизнь честно, а карась философствовал, что рыбы вполне могут жить в мире, не поедая друг друга. Ерш многое испытал на своем веку, а карась даже «щуки не видывал». Наконец идеалиста пригласили поучаствовать в дискуссии со щукой. Самоуверенный спорщик…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 17 мин.)
Вяленая вобла
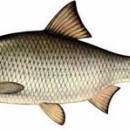 Идея сказки Вяленая вобла такова: эгоисты, не умеющие развиваться и чувствовать веяния времени, всегда заканчивают свои дни печально. Поймали как-то воблу, выпотрошили и повесили вялиться. А она и рада: вместе с внутренностями выпотрошили из нее всю совесть и все думы. Она и прежде-то всегда пряталась на дне и избегала дискуссий о «конституциях»…
Идея сказки Вяленая вобла такова: эгоисты, не умеющие развиваться и чувствовать веяния времени, всегда заканчивают свои дни печально. Поймали как-то воблу, выпотрошили и повесили вялиться. А она и рада: вместе с внутренностями выпотрошили из нее всю совесть и все думы. Она и прежде-то всегда пряталась на дне и избегала дискуссий о «конституциях»…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 19 мин.)
Гиена
 В сказке Гиена писатель отмечает поразительное сходство некоторых людей с мерзкими существами, издавна считавшимися оборотнями. Внешность гиен не внушает страха: иногда они могут показаться даже милыми. Однако население стран, где обитают эти животные, их не любит, боится и приписывает им дьявольские качества. Согласно местным поверьям, гиены –…
В сказке Гиена писатель отмечает поразительное сходство некоторых людей с мерзкими существами, издавна считавшимися оборотнями. Внешность гиен не внушает страха: иногда они могут показаться даже милыми. Однако население стран, где обитают эти животные, их не любит, боится и приписывает им дьявольские качества. Согласно местным поверьям, гиены –…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 5 мин.)
Дурак
 Сказка Дурак учит, что не могут люди быть полностью счастливыми, пока на земле существует подлость. У умных отца с матерью родился сын дурак. Да только не обычный дурак, а особенный. Не понимал он, как жить следует: то последние деньги отдаст нищему, то на пожар первым прибежит, то кинется спасать тонущего, не умея при этом плавать. Решили…
Сказка Дурак учит, что не могут люди быть полностью счастливыми, пока на земле существует подлость. У умных отца с матерью родился сын дурак. Да только не обычный дурак, а особенный. Не понимал он, как жить следует: то последние деньги отдаст нищему, то на пожар первым прибежит, то кинется спасать тонущего, не умея при этом плавать. Решили…
бытовые про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 16 мин.)
Древенский пожар
 Рассказ деревенский пожар повествует о трагедии, случившейся в одной деревне. Однажды летом в Софонихе случился пожар. Пока взрослые работали в поле, все выгорело дотла, погибли два человека: старушка и мальчик Петя. Его мать Татьяна не находила себе места от горя и все время роптала на Господа. В тот же день в соседнем поместье праздновала…
Рассказ деревенский пожар повествует о трагедии, случившейся в одной деревне. Однажды летом в Софонихе случился пожар. Пока взрослые работали в поле, все выгорело дотла, погибли два человека: старушка и мальчик Петя. Его мать Татьяна не находила себе места от горя и все время роптала на Господа. В тот же день в соседнем поместье праздновала…
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 11 мин.)
Верный Трезор
 В рассказе Верный Трезор автор показывает, как мерзко угодничество, отсутствие чувства собственного достоинства. У одного купца жил пес Трезор. Хозяин был очень доволен, ведь благодаря верному сторожу ни один чужой человек не мог проникнуть во двор. При этом пес не роптал даже когда его ругали и били: считал, что сам виноват. Кормили всегда…
В рассказе Верный Трезор автор показывает, как мерзко угодничество, отсутствие чувства собственного достоинства. У одного купца жил пес Трезор. Хозяин был очень доволен, ведь благодаря верному сторожу ни один чужой человек не мог проникнуть во двор. При этом пес не роптал даже когда его ругали и били: считал, что сам виноват. Кормили всегда…
бытовые про животных про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 10 мин.)
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
 В сатирическом рассказе Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил автор высмеивает не только никчемность богачей, но и невероятную покорность их слуг. Два генерала оказались на необитаемом острове. Перепугались они: фруктов, рыбы и дичи завались, да только как все это собрать, изловить и приготовить? Сроду они таким не занимались…
В сатирическом рассказе Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил автор высмеивает не только никчемность богачей, но и невероятную покорность их слуг. Два генерала оказались на необитаемом острове. Перепугались они: фруктов, рыбы и дичи завались, да только как все это собрать, изловить и приготовить? Сроду они таким не занимались…
бытовые про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 10 мин.)
Кисель
 Сказка Кисель учит, что излишние самодовольство и расточительство до добра не доводят. В одном господском доме кухарка замечательно готовила кисель. Хозяева не только лакомились им сами, но и угощали прохожих. Все нахваливали блюдо, и кисель был очень рад. Со временем кисель приелся господам, к тому же стало модным готовить всякие желе. Хозяева…
Сказка Кисель учит, что излишние самодовольство и расточительство до добра не доводят. В одном господском доме кухарка замечательно готовила кисель. Хозяева не только лакомились им сами, но и угощали прохожих. Все нахваливали блюдо, и кисель был очень рад. Со временем кисель приелся господам, к тому же стало модным готовить всякие желе. Хозяева…
короткие сказки для самых маленьких
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 2 мин.)
Коняга
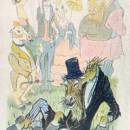 Вся жизнь героя рассказа Коняга наполнена непосильной работой. Хозяин у него не злой, сам трудится от зари до зари, чтобы выжить. Летом еще терпимо Коняге – можно зеленую травку щипать, а зимой кроме прелой соломы другого корма нет. Кажется ему, что живет он не одно столетие, и не будет конца мучениям. Есть у Коняги брат Пустопляс, у которого…
Вся жизнь героя рассказа Коняга наполнена непосильной работой. Хозяин у него не злой, сам трудится от зари до зари, чтобы выжить. Летом еще терпимо Коняге – можно зеленую травку щипать, а зимой кроме прелой соломы другого корма нет. Кажется ему, что живет он не одно столетие, и не будет конца мучениям. Есть у Коняги брат Пустопляс, у которого…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 9 мин.)
Ворон-челобитчик
 В сказке Ворон-челобитчик автор мечтает, что когда-нибудь будет на земле одна правда на всех, и прекратится вражда. Тяжкие времена настали для всего рода вороньего: обложили его хищные птицы непосильной данью. Не нравилось старому ворону, что молодежь вынуждена воровать, чтобы как-то прокормиться. И полетел он за советом к птицам, старшим по…
В сказке Ворон-челобитчик автор мечтает, что когда-нибудь будет на земле одна правда на всех, и прекратится вражда. Тяжкие времена настали для всего рода вороньего: обложили его хищные птицы непосильной данью. Не нравилось старому ворону, что молодежь вынуждена воровать, чтобы как-то прокормиться. И полетел он за советом к птицам, старшим по…
бытовые про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 15 мин.)
Медведь на воеводстве
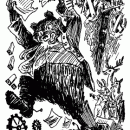 В сказке Медведь на воеводстве автор показывает, что грандиозные злодейства могут иногда прославить, тогда как мелкие пакости не вызывают ничего, кроме презрения. В одном лесу Лев назначал воеводами поочередно трех Топтыгиных. Первый Топтыгин мечтал остаться в Истории. А для этого требовалось совершить выдающееся злодеяние. Но по пьянке пошел…
В сказке Медведь на воеводстве автор показывает, что грандиозные злодейства могут иногда прославить, тогда как мелкие пакости не вызывают ничего, кроме презрения. В одном лесу Лев назначал воеводами поочередно трех Топтыгиных. Первый Топтыгин мечтал остаться в Истории. А для этого требовалось совершить выдающееся злодеяние. Но по пьянке пошел…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 17 мин.)
Здравомысленный заяц
 Герой сказки Здравомысленный заяц всегда рассуждал очень трезво. Уклад жизни таков, что кто-то кого-то должен есть, иначе никак. Заяц воодушевлял свою родню, что живут они прекрасно, занимают хорошее положение в обществе. А то, что их все время едят волки – неизбежность. Ведь по статистике ни один зверь не съест лишнего. Подслушала эти…
Герой сказки Здравомысленный заяц всегда рассуждал очень трезво. Уклад жизни таков, что кто-то кого-то должен есть, иначе никак. Заяц воодушевлял свою родню, что живут они прекрасно, занимают хорошее положение в обществе. А то, что их все время едят волки – неизбежность. Ведь по статистике ни один зверь не съест лишнего. Подслушала эти…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 13 мин.)
Самоотверженный заяц
 Как-то раз герой сказки Самоотверженный заяц спешил к невесте и не остановился на окрик волка. Тот догнал косого, приговорил к смерти и посадил под куст. Приказал ждать своего решения: захочет, съест его, захочет – помилует. Вскоре прибежал к зайцу брат невесты, рассказал, что зайчиха очень тоскует, и предложил сбежать. Но косой отказался, ведь…
Как-то раз герой сказки Самоотверженный заяц спешил к невесте и не остановился на окрик волка. Тот догнал косого, приговорил к смерти и посадил под куст. Приказал ждать своего решения: захочет, съест его, захочет – помилует. Вскоре прибежал к зайцу брат невесты, рассказал, что зайчиха очень тоскует, и предложил сбежать. Но косой отказался, ведь…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 9 мин.)
Пропала совесть
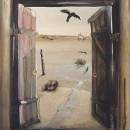 Сказка Пропала совесть учит, что нельзя стать человеком без совести. И закладывать ее нужно с детства. Однажды совесть куда-то исчезла. Многие обрадовались, ведь без нее жить легче. Валялась совесть на дороге, все ее топтали. Лишь пьяница решил поднять ее и обменять на стопку водки. Но лишь только взял он совесть в руки, как вспомнил все свои…
Сказка Пропала совесть учит, что нельзя стать человеком без совести. И закладывать ее нужно с детства. Однажды совесть куда-то исчезла. Многие обрадовались, ведь без нее жить легче. Валялась совесть на дороге, все ее топтали. Лишь пьяница решил поднять ее и обменять на стопку водки. Но лишь только взял он совесть в руки, как вспомнил все свои…
бытовые про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 17 мин.)
Орел-меценат
 В сказке Орел-меценат автор показывает, что не стоит браться за дело, которое противоречит твоей натуре. Толку от этого не будет. Надоело орлу жить отшельником и решил он организовать двор с челядью. По его приказу сокол, коршун и ястреб собрали целую стаю разных птиц. Сделали все, как в старину водилось, но чего-то еще не хватало. Тогда…
В сказке Орел-меценат автор показывает, что не стоит браться за дело, которое противоречит твоей натуре. Толку от этого не будет. Надоело орлу жить отшельником и решил он организовать двор с челядью. По его приказу сокол, коршун и ястреб собрали целую стаю разных птиц. Сделали все, как в старину водилось, но чего-то еще не хватало. Тогда…
про животных
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 14 мин.)
Добродетели и Пороки
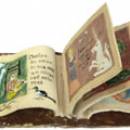 Сказка Добродетели и Пороки учит, как важно отличать правду от лжи, добро от зла. Пороки и Добродетели всегда были заклятыми врагами. Первые жили весело, кутили, и денежки всегда у них водились. А вторые вечно бедняками были, зато их во всех книжках прославляли как пример для подражания. Втайне Добродетели завидовали Порокам, и потихоньку…
Сказка Добродетели и Пороки учит, как важно отличать правду от лжи, добро от зла. Пороки и Добродетели всегда были заклятыми врагами. Первые жили весело, кутили, и денежки всегда у них водились. А вторые вечно бедняками были, зато их во всех книжках прославляли как пример для подражания. Втайне Добродетели завидовали Порокам, и потихоньку…
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 11 мин.)
Рождественская сказка
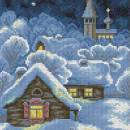 Рождественская сказка – очень поучительный рассказ. Люди любят рассуждать о правде, но своих делах руководствуются совсем другим. На праздновании Рождества Христова священник сказал замечательную речь. Правда пришла к людям вместе с Иисусом, а после Его вознесения на небеса осталась на земле. Все внимательно слушали батюшку, а особенно Сережа…
Рождественская сказка – очень поучительный рассказ. Люди любят рассуждать о правде, но своих делах руководствуются совсем другим. На праздновании Рождества Христова священник сказал замечательную речь. Правда пришла к людям вместе с Иисусом, а после Его вознесения на небеса осталась на земле. Все внимательно слушали батюшку, а особенно Сережа…
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 15 мин.)
Обманщик-газетчик и легковерный читатель
 Основная идея сказки Обманщик-газетчик и легковерный читатель: не стоит слепо верить всему, все пресса выдает за правду. Многие журналисты думают прежде всего о своей выгоде. Необходимо руководствоваться собственным мнением. Жили-были лживый газетчик и наивный читатель. Газетчик вечно выдумывал всякие «страшилки» про жизнь, а читатель с…
Основная идея сказки Обманщик-газетчик и легковерный читатель: не стоит слепо верить всему, все пресса выдает за правду. Многие журналисты думают прежде всего о своей выгоде. Необходимо руководствоваться собственным мнением. Жили-были лживый газетчик и наивный читатель. Газетчик вечно выдумывал всякие «страшилки» про жизнь, а читатель с…
бытовые про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 5 мин.)
Либерал
 В рассказе Либерал показано, как легко можно скатиться от прекрасных идеалов к подлости, если загонять свою совесть в «рамки». В одной стране жил либерал. Проповедовал он свои идеалы и мечтал, чтобы все вокруг «прониклись». Но мало кто воспринимал либерала всерьез. Пошел он к сведущим людям за советом. Сведущие сказали, что пекутся о том же…
В рассказе Либерал показано, как легко можно скатиться от прекрасных идеалов к подлости, если загонять свою совесть в «рамки». В одной стране жил либерал. Проповедовал он свои идеалы и мечтал, чтобы все вокруг «прониклись». Но мало кто воспринимал либерала всерьез. Пошел он к сведущим людям за советом. Сведущие сказали, что пекутся о том же…
бытовые про людей
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 8 мин.)
Соседи
 Сказка Соседи повествует, что в одном селе жили два Ивана – Бедный и Богатый. Как-то раз собрались они на совет: как бы сделать так, чтобы у обоих достаток стал одинаковым. Бедняк работал не покладая рук, но едва сводил концы с концами. А богач раздавал свое богатство, но в итоге оно только прибывало. Пошел Иван Богатый к царю и попросил уравнять…
Сказка Соседи повествует, что в одном селе жили два Ивана – Бедный и Богатый. Как-то раз собрались они на совет: как бы сделать так, чтобы у обоих достаток стал одинаковым. Бедняк работал не покладая рук, но едва сводил концы с концами. А богач раздавал свое богатство, но в итоге оно только прибывало. Пошел Иван Богатый к царю и попросил уравнять…
Автор: Салтыков-Щедрин
(Время чтения: 11 мин.)
Произведения для детей совсем необязательно должны быть посвящены фантастическим животным, волшебству и природе, чтобы заинтересовать маленьких читателей. Даже бытовые истории способны приковывать внимание и вызывать желание обязательно дочитать их до конца, по крайней мере, если это сказки, которые написал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Побывав в свое время редактором газеты, журналистом и даже вице-губернатором двух российских губерний, автор накопил огромный жизненный опыт и обрел способность видеть глубинные стремления людей. Свои знания и соображения он передал в сказках, рассказах и повестях, которые стоит начать читать ребенку, начиная с младшего школьного возраста. Пускай сначала слушателю будет немного сложно понять некоторые слова и выражения, но затем сюжет настолько затянет, что оторваться будет невозможно.
Читайте сказки для детей онлайн
Познакомить ребенка ближе с удивительными книгами, созданными русским писателем, можно в любое время – для этого не нужно отправляться в библиотеку или магазин, только открыть текст на нашем специализированном сайте. Произведения у нас доступны не в сокращении, а полностью, причем совершенно бесплатно, также нет необходимости проходить регистрацию и оставлять адрес электронной почты для рассылки. Порадуйте себя погружением в детство, а сына или дочку – увлекательными сказками хорошего автора, чей труд уже по достоинству оценили тысячи юных и взрослых читателей по всему миру.
Короткие рассказы и полноценные повести будут интересными деткам разного возраста, но, естественно, малышам стоит выбирать максимально простые и понятные сюжеты. В списке вы найдете названия произведений, написанных Михаилом Евграфовичем в разные периоды жизни – между собой они отличаются тематикой, стилистикой, но все посвящены важным моментам в жизни человека. Кроме художественной ценности книги писателя имеют огромное значение как эффективный инструмент воспитания в ребенке положительных качеств и ценностей.
Популярные сказки Салтыкова-Щедрина
- Дикий помещик
- Премудрый пескарь
- Бедный волк
- Баран-непомнящи
- Богатырь
Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 2 класс, 1 часть, Климанова, Горецкий, страницы 154-156.
УКМ «Школа России»
Раздел «О братьях наших меньших». Проверим себя и оценим свои достижения.
1. Объясни название раздела. Почему мы называем животных меньшими братьями?
Этот раздел о животных. Мы часто называем животных нашими меньшими братьями, поэтому так назван и раздел.
Мы зовем животных меньшими братьями, потому что они во многом зависят от нас. Они слабее, уязвимее. Человек может им легко навредить, но не должен этого делать. Он должен любить животных как братьев.
2. О чём писатели заставляют нас задуматься?
Писатели заставляют нас задуматься о том, что человек тоже является частью природы. И если он вредит природе, то тем самым вредит и себе.
Писатели говорят нам о необходимости бережного отношения к природе, о том, что животных нужно любить и беречь. Они говорят об ответственности человека перед природой и своими питомцами.
3. Какой из прочитанных рассказов показался тебе наиболее интересным? Что в нём запомнилось?
Наиболее интересным мне показался рассказ Бианки «Музыкант». Мне запомнилось, как медведь играл на щепке и поразило то, что эта игра доставляла ему настоящее удовольствие. Медведь понимал музыку и это удивительно.
4. Есть ли в этом разделе сказки о животных?
В этом разделе есть сказки Валентина Бианки «Сова» и Бориса Житкова «Храбрый утёнок».
5. Что общего и чем различаются сказки и рассказы о животных?
Общего у сказки и рассказа то, что их героями являются животные и люди.
Отличаются они тем, что в сказке животные могут говорить и ведут себя, как люди.
6. Чем отличается художественный рассказ от научно-познавательного текста?
В художественном рассказе писатель создает образ, рисует картину, которая волнует читателя, он выражает своё отношение к происходящему, описывает конкретный случай.
В научно-познавательном тексте рассказывается о конкретном явлении или предмете, приводятся факты, примеры. В нём нет героев и сюжета.
7. Сравни рассказ Чарушина с текстом про ежа из энциклопедии. Чем они различаются?
В рассказе Чарушина описывается случай, который произошел с мальчиками и ежом. В нём есть сюжетная линия, есть герои. Он вызывает смех у читателя.
Рассказ из энциклопедии описывает ежа, как животное. Рассказывает о его образе жизни и внешнем виде. В нём нет сюжета и нет героев.
8. О чём ты узнал из рассказа Чарушина? Действительно ли он страшный? Расскажи об этом.
Я узнала, что ёж может забраться в дом, что он ведёт ночной образ жизни и любит молоко.
Этот рассказ не страшный, а смешной. В нём мальчики испугались ежа, потому что придумали себе разные страхи. Когда всё выяснилось, они сами посмеялись над собой.
9. Что нового ты узнал о еже из энциклопедического текста?
Я узнала, что у ежей хороший слух и нюх. Что они зимой ложатся в спячку. Что они не делают запасов и не носят яблок на спине.
10. Понаблюдай за жизнью своих питомцев. Опиши их повадки, привычки, то, что ты наблюдаешь в реальной жизни. Это будет научно-познавательный текст. Придумай сказку или рассказ о своём любимце. Что ты выделишь особенного в его характере? Какие чувства передашь?
У меня дома живёт кошка. Я напишу научно-познавательный текст про неё и рассказ, в котором выделю её самостоятельность, независимость, ум. В нём я покажу, как сильно я люблю свою кошку.
Познавательный текст про домашнего питомца — кошку, для 2 класса
Кошка очень ласковый и красивый зверёк. Он небольшого роста, но очень отважный и смелый. Кошка отличный охотник, она быстро бегает, высоко прыгает, обладает острыми зубами и когтями.
Часто добычей кошек становятся мыши и птицы.
Кошка очень чистоплотная и постоянно вылизывает шерсть языком. Но при этом кошки не любят воду и мало пьют.
Большую часть дня кошки спят, но иногда на них нападает активность и они бегают по всей квартире, точат когти о мебель, играют с мячиком.
Рассказ про домашнего питомца — кошку для 2 класса
Мурка открыла глазки и потянулась. За окном светало и она решила, что пришло время будить хозяйку, то есть меня. Мурка запрыгнула на кровать, прошлась по одеялу и остановилась около моей головы. Она понюхала меня, пощекотала усами, и стала топтаться, выпуская когти. При этом Мурка громко мурчала.
Я какое-то время пыталась продолжать спать, но потом не выдержала и опрокинула Мурку на постель. Я стала щекотать ей пузо и дуть в ушки. Мурка жмурилась и отворачивалась.
Потом я встала и пошла на кухню, чтобы выдать кошке её заветный пакетик корма. Мурка весело затопала следом. Она аккуратно стала кушать, поглядывая на меня. Потом довольно потянулась и отправилась спать.
Её план на утро был выполнен. Она поела, её погладили, а значит жизнь удалась.
11. Придумай историю, основную мысль которой можно выразить одной из пословиц: Пуганная ворона и куста боится; Чем дальше в лес, тем больше дров; Ты пожалей — и тебя пожалеют» Лес и вода — родные брат и сестра.
Рассказ на тему «Пуганная ворона и куста боится» для 2 класса
Однажды Игорь решил понюхать красивый цветок и его ужалила пчела. Мальчику было больно и он даже заплакал.
А осенью на клумбах возле школы появилось много мух-жужжалок, похожих расцветкой на пчёл. Мальчишки ловили их и пускали в небо. А Игорь стоял в сторонке и боялся. Он думал, что это могут быть пчёлы, только какие-то неправильные.
Рассказ на тему «Чем дальше в лес — тем больше дров» для 2 класса
Маша и Оля отправились в лес за грибами. Маша поленилась и ходила возле опушки. Она нашла всего три гриба. А Оля зашла в чащу и набрала полную корзину.
Когда девочки встретились, Оля объяснила Маше, что грибы лучше искать в глубине леса, там их больше и там меньше других грибников.
Рассказ на тему «Ты пожалей и тебя пожалеют» для 2 класса
Костя нашёл возле дома маленького щенка. Он пожалел его и взял домой. Мальчик накормил щенка и искупал его. Он боялся, что мама не разрешить ему оставить щенка дома.
Когда мама вернулась с работы, она увидела счастливое лицо сына, и разрешила оставить щенка. Она пожалела Костю, ведь тот был так счастлив.
Рассказ на тему «Лес и вода — родные брат и сестра» для 2 класса
В нашем лесу бежал красивый и холодный ручеёк. Но после бури его сильно завалило ветками и он стал засыхать. Деревья по его берегам тоже поникли. Им очень нужна была вода.
Тогда учитель привёл школьников в лес и они вместе почистили ручеёк. Он весело зажурчал, а деревья стояли по берегам и качали ветками. Они словно благодарили детей за помощь.
12. Прочитай слова из книги Сладкова. Обсудите с другом. Какими мыслями хочет поделиться с вами писатель? Согласны ли вы с его высказыванием о том, что природу может спасти только любовь?
Писатель хочет нам сказать, что человек легко может навредить и даже погубить природу. Он призывает нас относиться к животным и птицам, деревьям с любовью, бережно, осторожно.
Я согласна, что если человек любит природу, то он никогда не станет ей вредить. Равнодушный к природе человек может сломать дерево, раздавить муравейник, убить животное.
Только наша любовь может защитить природу от самого человека.
Издательство «Новое литературное обозрение» представляет книгу Вадима Михайлина «Бобёр, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции».
«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят — заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам. Он разрушал механизмы формирования культурных мифов и нередко подрывал усилия государственной пропаганды. Анекдоты о Пятачке-фаталисте, алкоголике Чебурашке, развратнице Лисе и других персонажах-животных отражали настроения и опасения граждан, позволяли, не говоря ни о чем прямо, на самом деле говорить обо всем — и чутко реагировали на изменения в обществе.
Предлагаем прочитать фрагмент книги.
О когнитивных основаниях зооморфной сюжетики
Как уже было сказано выше, советский анекдот во многом восходит к сказке; применительно к анекдоту зооморфному имеет смысл говорить о вполне конкретном сказочном жанре, устойчиво именуемом «сказкой о животных» (animal tale), при том что даже для самых завзятых структуралистов попытка найти единые формальные основания для того, чтобы более или менее четко определить этот жанр, неизбежно заканчивается неудачей. Так, Владимир Пропп, раскритиковав указатель Аарне — Томпсона за «перекрестную классификацию» и заключив свою филиппику пассажем о том, что «сказки должны определяться и классифицироваться по своим структурным признакам»[1], сам попросту избегает разговора именно о структурных признаках этого жанра, мимоходом ссылаясь на то, что «сказки о животных представляют исторически сложившуюся цельную группу, и выделение их со всех точек зрения оправданно»[2].
В конечном счете, как правило, всё сводится к нехитрой формуле: сказки о животных суть сказки, в которых действующими лицами являются животные. С чем я не могу не согласиться — с одной значимой оговоркой. Любой повествовательный жанр (что, применительно к устной традиции, автоматически делает его еще и жанром перформативным) представляет собой способ организации проективных реальностей, соответствующий когнитивным навыкам и ситуативно обусловленным запросам целевой аудитории. И его (формально выделяемые на уровне сюжета, системы отношений между акторами и т. д.) структурные особенности, сколь угодно четко выраженные, вторичны по отношению к тем когнитивным основаниям, на которых аудитория согласна принимать участие в построении этих проективных реальностей, а также к тем ситуативным рамкам, которые делают исполнение возможным. Так что если мы хотим понять, почему практически во всех известных нам культурах люди рассказывают друг другу самые разные и по-разному организованные истории о животных (а также разыгрывают маскарадные перформансы, снимают кино, используют зооморфные образы в процессе саморепрезентации, в досуговых практиках, политической риторике и т. д.), нужно разобраться с тем, какую роль «зверушки» привычно играют в наших когнитивных навыках и установках[3].
Мы — социальные животные, чья социальность основана на способности каждого отдельного человека создавать, передавать и воспринимать сложные сигналы, позволяющие ему и другим людям выстраивать совместимые проективные реальности. Сигналы эти обращаются к так называемым инференциальным системам, которые позволяют нам восстанавливать/выстраивать объемные контексты, отталкиваясь от небольшого количества входящей значимой информации, а роль одного из первичных «фильтров значимости» выполняют онтологические категории, такие как «человек», «пища», «инструмент» и т. д. «Животное» — одна из таких базовых онтологических категорий, причем одна из самых продуктивных, поскольку позволяет задействовать наиболее разнообразные и детализированные режимы метафоризации.
Последняя же, в свою очередь, представляет собой еще один ключ к нашим способностям, связанным с умением выстраивать проективные реальности и затем видоизменять в соответствии с ними собственную среду пребывания. А потому остановлюсь на ее природе чуть подробнее.
Метафора представляет собой единый когнитивный механизм, включающий в себя как минимум две составляющих. Во-первых, метафора есть действенный способ смыслоразличения, устроенный следующим образом: две принципиально разные семантические системы, определяемые через разные онтологические категории (скажем, «человек» и «животное»), сопоставляются через операцию переноса какого-то особо значимого элемента из одной системы в другую: скажем, во фразе «свинья грязь найдет» физически или этически запачканный человек (или, напротив, человек, проявляющий излишнее внимание к чужой «запачканности») уподобляется свинье, животному, одним из признаков которого является любовь к грязевым ваннам. Системы эти должны быть, с одной стороны, совместимы хотя бы по ряду базовых признаков, что упрощает сопоставление: в нашем случае сопоставляются два живых существа, теплокровных, наделенных интенциональностью и — ситуативно — покрытых грязью или заинтересованных в контакте с ней. С другой, они должны быть различимы, что обеспечивает контринтуитивный характер самой операции переноса: перенесенный элемент «торчит» из чуждого контекста и привлекает к себе внимание (одна из наших инференциальных систем настороженно относится к некоторым субстанциям, которые именно по этой причине подгоняются под общую категорию «грязь» с выраженным негативным фоном; адекватный человек грязи должен избегать). Контринтуитивный характер совершенного переноса фокусирует внимание на базовых дихотомиях, позволяя за их счет более четко «прописывать» разницу между исходными системами: подчеркнув неполную социальную адекватность испачкавшегося человека, мы лишний раз «проводим границы человечности».
Во-вторых, метафора представляет собой когнитивную матрицу, которая позволяет наиболее экономным способом вменять конкретному элементу системы целый набор сопряженных между собой и неразличимых в дальнейшем признаков — за счет сопоставления этого элемента с элементом другой системы, определяемой через другую онтологическую категорию. Так, называя человека собакой, мы как бы приписываем ему вполне определенные качества (агрессивность, трусость, подобострастность, преданность хозяину, жадность, неприятный запах, неразборчивость в еде и сексе, особую сигнальную систему, ориентированность на стайное поведение и т. д.), отличающие, с принятой у нас точки зрения, собаку от других животных. В зависимости от конкретной ситуации, на передний план может выходить тот или иной конкретный признак, но все остальные идут в нагрузку, поскольку одна из наших инференциальных систем в ответ на конкретный информационный раздражитель выдает всю совокупность признаков, касающихся требуемого объекта.
Четко ощутимые базовые дихотомии, различающие две онтологические категории, препятствуют прямому, аналитическому считыванию вмененных признаков через «поверку действительностью». Нам попросту не приходит в голову расщеплять полученный пакет на отдельные признаки, верифицировать каждый из них через сопоставление с реальностью и определять, насколько неразборчив в сексе человек, которого сравнили с собакой, имея в виду его преданность другому человеку, — или насколько приятно от него пахнет.
Что, естественно, не отменяет значимого присутствия этих признаков, которые считываются автоматически (хотя и не обязательно все подряд и в полном объеме), в комплексе и без затраты дополнительных когнитивных усилий. Более того, одна из устойчивых коммуникативных стратегий, направленная на разрушение пафоса чужого высказывания, как раз и связана с «конкретизацией метафоры». Если в ответ на фразу о «преданном как собака» человеке вы получаете замечание «только не лает / блох не вычесывает / столбы не метит», это означает резкое понижение общей оценки объекта высказывания. Актуализируя скрытые на момент высказывания — но вполне соответствующие его структуре — компоненты метафоры, собеседник превращает ее из нейтральной фигуры речи в инструмент влияния и перехватывает ситуативную инициативу.
Зооморфное кодирование — одна из наиболее продуктивных стратегий метафоризации, если вообще не самая продуктивная. Звери, с одной стороны, четко отграничиваются от людей в качестве одной из онтологических категорий, человеку противопоставленных, — и это дает, собственно, основание для построения метафор. С другой, эта базовая классификационная категория по ряду основополагающих признаков (одушевленность, целеполагание, для птиц и млекопитающих — теплокровность и т. д.) сближена с категорией «человек»[4], что создает надежные основания для «достоверных» и множественных операций переноса, позволяя создавать целые метафорические контексты, построенные на постоянном мерцании смыслов между «верю» и «не верю». И, соответственно, выстраивать на основе этих контекстов разветвленные и потенциально очень смыслоемкие культурные коды.
Итак, животные:
1) составляют одну из наиболее репрезентативных категориальных групп, члены которой объединены рядом общих признаков (способность двигаться по собственному почину, способность различать себе подобных, посылать и улавливать сигналы, а также реагировать на них, потребность в питании и кислороде; для более узкой категории «зверь» — шерсть, теплокровность, четвероногость как принцип);
2) обладают устойчивыми нишами в тех же пищевых цепочках, в которые включен человек, и тем самым обречены на повышенное (конкурентное) внимание со стороны последнего;
3) при более чем широком видовом разнообразии виды обладают ярко выраженными наборами визуальных и поведенческих характеристик (а также аудиальных, ольфакторных, тактильных) и тоже включены в систему устойчивых взаимоотношений между собой, что дает возможность максимально разнообразного и разнопланового сопоставления конкретных видов с конкретными человеческими индивидами и/или группами, а также с теми системами отношений, которые между ними возникают.
Таким образом, наш устойчивый интерес к животным объясним, среди прочих причин, еще и тем, что нашему сознанию удобно оперировать их образами, решая при этом свои, сугубо человеческие задачи. В рамках культур, именуемых традиционными[5], зооморфное кодирование представляет собой систему крайне разветвленную и многоаспектную.
Через зооморфные тропы кодируются социальные статусы и хозяйственные навыки, моральные аттитюды и пространственно-временные отношения, возрасты человеческой жизни и события, связанные со смертями и рождениями, звери обильно населяют воинские, эротические, демонстративные, агональные, пейоративные, игровые и прочие практики. Кажется, невозможно найти такую сферу человеческой жизни, которая в человеческой истории так или иначе не была бы означена через зооморфные коды.
Еще одна особенность животных — это менее выраженная по сравнению с человеком индивидуализация внешнего облика каждой конкретной особи в пределах вида — естественно, если исходить из человеческой точки зрения. Наша психика, на протяжении многих тысячелетий формировавшаяся в пределах малых групп, привычна к тому, что человек должен помнить в лицо всех тех людей, с которыми он встречается на протяжении своей жизни: отсюда наша привычка автоматически вглядываться в лица людей, идущих нам навстречу в городской толпе, отсюда и масса острых психологических проблем, свойственных обитателям мегаполисов[6].
Животные же «в лицо» — как то диктуют нам наши инференциальные системы, связанные с выстраиванием «личных картотек», — различимы гораздо хуже. Многие из них в рамках собственного вида попросту ориентированы на малодоступные нашим органам чувств сигнальные системы, скажем ольфакторные; для нас же, безнадежных визуалов, эти сигналы пропадают втуне. Конечно, каждый владелец собаки или кошки скажет вам, что узнает своего эрдельтерьера за сто метров среди сотни других эрдельтерьеров, и некоторые при этом даже почти не соврут. Конечно, всякий хороший пастух помнит каждую корову в своем стаде — если стадо это не превышает нескольких десятков голов. Но даже среди народов, традиционно занимающихся скотоводством, практика клеймления распространена весьма широко и служит отнюдь не только гарантией против воровства. Как бы то ни было, животные дают нам уникальную возможность балансировать на грани индивидуализированных и обобщенных характеристик — в чем-то равняясь в этом отношении с представителями других человеческих культур, которых нам тоже проще запоминать, не разделяя и делая при этом значимые исключения для отдельных так или иначе запомнившихся нам представителей общей «породы». Однако даже закоренелый расист и ксенофоб не в состоянии окончательно отменить границу между базовыми онтологическими категориями: он может называть представителей других рас (национальностей, конфессий) собаками или свиньями, но именно что называть, задействуя привычный режим метафоризации, который возможен только в том случае, если говорящий продолжает считать того, кого оскорбляет, человеком. В конце концов, белые плантаторы в южных штатах могли сколь угодно жестоко обращаться с черными рабами и не чаять души в собаках и лошадях, но ни один из них не пытался произвести над нежно лелеемой лошадью процедуру крещения, через возможность которой для тогдашнего христианина пролегала онтологическая граница между человеком и животным.
Итак, животное упрощает процедуру метафоризации.
С одной стороны, самим фактом своей принципиальной инаковости оно четко полагает границу между той актуальной ситуацией, в которой происходит рассказывание истории, и проективной реальностью рассказа: животные могут разговаривать только в сказке, слушатель/зритель занимает привилегированную позицию оценивающего наблюдателя, которому представленная ситуация интересна, но никаких прямых обязательств на него не возлагает. И в этом смысле зооморфная проективная реальность предлагает слушателю/зрителю/читателю то же удовольствие от «безопасного», стороннего и основанного на чувстве превосходства подглядывания за действующими лицами, что и Феокритова идиллия; но только зверь как персонаж снимает социальную неловкость от самого факта подглядывания — что особенно удобно применительно к детской аудитории[7].
С другой стороны, животное как персонаж облегчает кодирование — как за счет своей принципиальной «однозначности», принадлежности к некоему обобщенному классу живых существ, лишенных места в «личной картотеке» слушателя, так и за счет не менее принципиальной «неоднозначности», поскольку каждому такому классу приписывается несколько принципиально разных (и подлежащих различной моральной оценке со стороны слушателя) свойств, которыми рассказчик может оперировать в зависимости от ситуативной необходимости[8].
Итак, зверь как персонаж «зооморфного» текста способен выполнять весьма специфическую задачу — повышать порог зрительской/слушательской эмпатии, то есть снимать излишнюю эмпатию по отношению к действующему лицу за счет контринтуитивного совмещения в одном персонаже человеческих и нечеловеческих черт. И вместе с тем за счет той же самой контринтуитивности привлекать к себе повышенное внимание к себе. Зайчику сочувствуют, а не ставят себя на его место. Исполнитель зооморфного текста — не важно, нарративного, перформативного или чисто визуального (как в скифской торевтике или греческой вазописи), может позволить себе очевидную роскошь: оценку типичной социальной ситуации (позиции, статуса, системы отношений) — в том числе и связанной с личным опытом слушателя — через подушку безопасности. Поскольку речь идет о «зверушках».
[1] Пропп В. Я. Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. С. 252.
[2] Пропп В. Я. Жанровый состав русского фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М.: Лабиринт, 1998. С. 31.
[3] Нижеследующий (до конца главки) пассаж представляет собой несколько переработанную версию текста, написанного мной в 2013 году для совместной с Екатериной Решетниковой статьи, см.: Михайлин В. Ю., Решетникова Е. С. «Немножко лошади»: Антропологические заметки на полях анималистики // Новое литературное обозрение. 2013. № 6 (124). С. 322–342. Свою позицию по вопросу о когнитивных основаниях нашей зацикленности на зооморфной образности я уже сформулировал там и не вижу внятных оснований для того, чтобы делать это заново — по крайней мере, пока.
[4] См. в этой связи «онтологическое дерево», выстроенное Фрэнком Кейлом в кн.: Keil F. C. Semantic and Conceptual Development: An Ontological Perspective. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1979.
[5] И ориентированных на более узкие суммы публичных контекстов, чем наша культура, а также и, соответственно, на более тонкие, менее подверженные операции абстрагирования системы повседневного смыслоразличения.
[6] Вроде стандартной урбанистической апории: навязчивое чувство одиночества вкупе с ощущением, что вокруг слишком много людей.
[7] В этом смысле классическая зооморфная басня действует по той же схеме, что и зооморфный анекдот, — но только с поправкой на радикальный дидактический поворот в пуанте — вместо столь же радикальной деконструкции всяческой дидактики.
[8] Собственно, о чем-то похожем писал еще Л. С. Выготский в «Психологии искусства», в процессе полемики с Г. Э. Лессингом и А. А. Потебней по поводу их взглядов на (зооморфную) басню. «…каждое животное представляет заранее известный способ действия, поступка, оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни» — и далее, применительно к басне И. А. Крылова о лебеде, раке и щуке: «…никто, вероятно, не сумеет показать, что жадность и хищность — единственная характерная черта, приписываемая из всех героев одной щуке, — играет хоть какую-нибудь роль в построении этой басни» (Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987. С. 100, 101).

