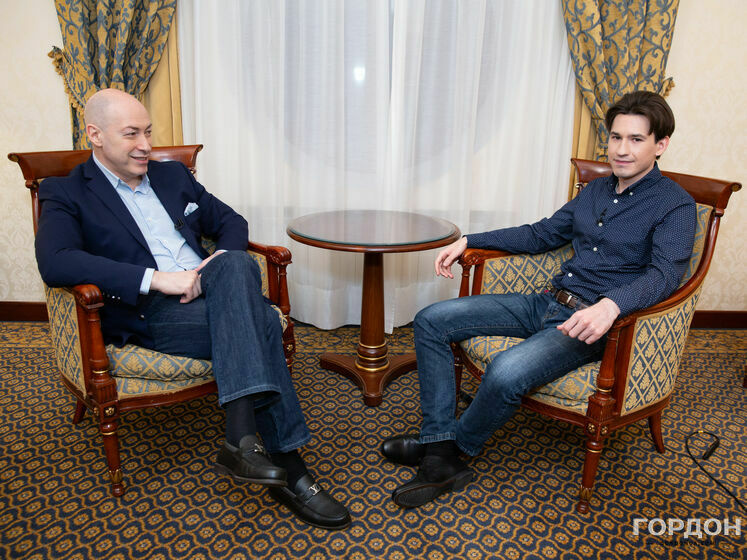Тема любви в лирике Тютчева, Любовная лирика Тютчева (в творчестве) сочинение
У Федора Ивановича множество стихов о любви. Многие из них очень известны. Например, «Она сидела на полу…», «Весь день она…» или «О, как убийственно…».
Конечно, многие поэты воспевают это чувство, но у каждого человека оно выражается немного по-своему. У Тютчева любовь рядом с восхищением, обожествлением своей возлюбленной. То она краше, чем темнота перед рассветом, когда роса ложится на травы – «Я знал её ещё…». То ей посвящается целая цепь эпитетов: незабвенная, непостижимая, недостижимая… И в итоге сравнение – «как звезда в небе» (в стихотворении «Ещё томлюсь…»). То Она – молодая фея, как в стихотворении «Я помню…».
Сама любовь для поэта, будто свет в тёмном «царстве». Вот стихотворение «В часы, когда…» описывает тоску автора, но тут появляется лучом света любовь. Поэт подчеркивает, что свет этот не даёт никаких ответов, но с ним легче жить. Любовь похожа у него на силу природы – стихию, но не философское понятие. В его стихах любовных больше психологии, но не философии.
Собственно, поэтому часто Тютчев чувствует себя недостойным её… истуканом! У которого не хватает пыла, чувств перед идеалом. Поэт постоянно обращается в стихах к любимой, как если б это было письмо или его речь к ней – признание.
Также в его творчестве присутствует мотив тайной любви. Пример: «К Н.Н», где показан тайный роман поэта с замужней женщиной, муж который, как ревнивый стражник, охраняет её. А она умеет скрывать своё чувство, даже виду не подаст, что любит Федора Ивановича, но это, на самом деле, так. Или стихотворение «Чуть брезжит в небе…» возлюбленная сравнивается с месяцем, который днём трудно разглядеть на небе, а вот ночью он проявляется во всей красе. Всё освещает, как её любовь, но тайно – без свидетелей. Ещё есть намёки на секрет и в других стихах, когда для любви нет «божьего согласья».
Очень редко Тютчев придумывает названия стихов, просто используя первую строку: «Не говори. Она меня…» или «Ещё томлюсь тоской…». Часто в названии – сравнение, например: «Как неразгаданная…», конечно, речь идёт о девушке-загадке. Также часто, подчеркивая эмоциональность, стихотворение начинается с восклицания-отрицания: «Как нас ни угнетай…» или «Как ни бесилося…».
Нужно сказать, что личная жизнь у Тютчева не складывалась. Дважды он был женат, были романы. Две его возлюбленные погибли молодыми. Был момент встречи через многие года с первой любовью («Я встретил…»). Чувства не остыли в поэте до самого преклонного его возраста, что видно в «Последней любви», где он просит очарование длиться дольше. Он понимает, что уже возраст не для романов, но не может не поддаться прекрасному чувству, которое ещё и, конечно, вдохновляет поэта.
В любви для поэта страдание и сладость, что находит отражение в таких стихах, как «Близнецы» (там Самоубийство и Любовь как Смерть и Сон), в «Предопределение» (роковой поединок влюбленных). В общем, не всегда чувство это делало его счастливым, но жить без него он не мог. По крайней мере, так я почувствовал в его стихах.
Вариант 2
Лирика каждого поэта в русской литературе своеобразна. Это объясняется индивидуальным отношением писателей к тому или иному явлению в жизни.
Тема любви в творчестве Ф. И. Тютчева — это часть его жизни и личной, и творческой. Неудачные любовные связи на его жизненном пути не сломили поэта. Наоборот, этот человек находил в каждом движении, мимике противоположного пола продолжение для вдохновения своему творчеству.
Тревожные и светлые мысли, душевные порывы, отраженные в его стихотворениях, до глубины души трогают сердце читателя. Для любовной лирики характерна настоящая искренность. Именно поэтому из его произведений можно узнать часть биографии. Но цель существования этого человека всегда была неизменной — он ни дня не мог прожить без страстных признаний, которые имели место на любом этапе жизни, несмотря на предыдущие потери и трагическую развязку.
Любовь, предательство, ложь и боль — каждое из этих чувств автор испытал на себе, поэтому так необыкновенно точно и искренне звучат его строки, созданы образы.
Пылкая ранняя влюбленность его выливалась со всей мощью в произведениях, посвященных Амалии Крюденер «Ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волненья. «. В каждой строчке, имеющей отношение к этой девушке, он воспевал красоту, влечение и ежедневное наслаждение от присутствия рядом с ней. Однако эта история любви для поэта закончилась разочарованием. «Я помню время золотое» — слова, которые говорят о беспечности и страсти молодого поэта в прошлом.
Своей любящей жене Ф. И. Тютчев посвятил нежные признания: «Твой милый образ, незабвенный. «. Однако одновременно он не задумываясь встречался с Эрнестиной Дернберг, которая стала его спутницей в будущем. Но и эта женщина, которая вызвала массу чувств, была не последней в его судьбе.
Денисьевой Елене были посвящены лучшие строки его лирики: «И страшно грустно было мне. Как от присущей милой тени». Это восклицание поэта, которое можно отнести к его сущности в целом, так как Федор Иванович всю свою жизнь нуждался в новых чувствах и ощущениях.
Не щадя своих возлюбленных, он предавал, испытывая жалость, но не в силах был справиться с собой. Между тем каждое событие его нелегкой судьбы, мироощущение, связанное с любовью, были отражены в стихотворениях. Они создавались из расставаний с любимыми, совместных встреч утренних лучей солнца, из ощущения потерь.
Любовь в творческой деятельности поэта — высшая сила, способная творить волшебство. Автор осознает, что это чувство приходит внезапно и ощущает себя бессильным в борьбе с ним. Поэтому в его судьбе роковые моменты неизбежны, а сам автор уподобляет себя птице с изувеченными крыльями.
Сочинение Любовная лирика Тютчева (тема любви в творчестве Тютчева)
В то время русские писатели относились к лирике о любви с большим интересом и особым чувством, которое в них заражала особое вдохновение для их творчества. И появлялось целеустремленное желание творить все новые и новые шедевры для русской литературы. И можно сказать по этой причине, что чувство любви вызывает массу эмоций и душевных переживаний, являлось особой темой для поэзии.
Безусловно, каждое произведения Тютчева о любви, стало неотъемлемой часть его самого известного творчества, которое известно и по сей день. Ведь он в своем творчестве пишет о том, что твориться у него на сердце, выражает происходящие события с его любимыми женщинами. Каждая его строчка написана из прожитой личной жизни самого автора, словно с дневника. Передавая все тягости и душевные переживания из-за любовных чувств происходивших с ним в тот момент его прожитой жизни. Он даже после разрыва отношений вспоминает своих женщин.
Он всегда писал искренне, не скрывая своих чувств. Но многочисленные связи с разными особами довели его жену до смерти, с прискорбием он это принимает, но поделать уже не чего не может. Ведь что-то менять уже поздно. Спустя некоторое время, утихает боль о трате супруги и он жениться второй раз на любовнице, которой посвящает немало любовных произведений.
Тютчев в свое время разбил сердца многим женщинам, принеся им массу боли и разочарований.
Подводя итог любовной лирике Ф.И.Тютчева, можно с уверенностью сказать, что он творил шедевры для русской литературы, пусть даже не всегда со счастливым и успешным концом. Но поэт всегда писал о тонких своих душевных переживаниях, происходящих из-за любимых женщин встречавшихся у него на пути. И у него их было довольно не мало, Тютчев был любвеобильным. И ему постоянно хотелось познавать постоянно новые впечатления. Он немало своим возлюбленным посвящает стихотворений, в которых выражает свои глубокие чувства
Сочинение 4
Для большинства русских поэтов любовь является бессмертным чувством, которое в любом из своих проявлений становится источником вдохновения, зарождения новой мысли. Именно поэтому теме любви уделяется особое внимание.
Личная жизнь Федора Ивановича Тютчева с юношеских лет до зрелого возраста сопровождалась бурными страстными днями и ночами, романтическими связями с женщинами, минутами страданий и наслаждений, клятвами в верности и предательством. В связи с этим, в творчестве Ф.И. Тютчева нашли отражение его увлечения, которые иногда вносили в будни неповторимые мгновения счастья, но иногда были губительными для обоих влюбленных. Каждое творение его любовной лирики — это неотъемлемая составляющая самого автора. Это события, переживания, настроения, которые он извлекал из сердца, переносил их лично и запечатлевал на страницах сочинений.
В стихотворениях нашла отражение глубокая привязанность к любимым женщинам, достоверные факты о которых отражены в биографии. В произведениях нет упоминаний об именах, статусах возлюбленных. Полная картина создается после прочтения произведений. Проникая вглубь строк, разделяешь ощущения поэта, понимаешь его душевные терзания. Зная подробности его историй из биографических очерков, можно легко узнать в них каждого адресата.
Взаимные чувства поэта с Амалией были обречены на расставание. Он с нежностью и сожалением вспоминает время, проведенное вместе с утонченной баронессой: «Я помню время золотое». Восхищаясь ее внешностью, движениями со стороны, забывал обо всем: «Твой муж, сей ненавистный страж, любуется твоей красой послушной».».
Искренностью от испытанных чувств пронизаны стихотворения, посвященные Элеоноре Петерсон. Страсть продолжалась несколько лет. Преданность и уважение к мужу росло с каждым днем. Все это просматривается в строках, обращенных к ней. Однако новая тайная связь поэта стала ударом для супруги. Понимание ошибки наступает, но слишком поздно. Жена умирает, Тютчев выражает свою растерянность, скорбь: «Еще томлюсь тоской желаний».
Преодолев горе, он женится на любовнице, посвятив ей немало головокружительных признаний в стихотворениях: «Мечта», «Люблю твои глаза, мой друг», «Она сидела на полу». Они проникнуты отсутствием уверенности в продолжении будущих отношений.
Следующим адресатом, которому отнесен цикл под названием «Денисьевский», была Елена Александровна. Она быстро завладела горячим сердцем мужчины. «О как убийственно мы любим» — в этих словах крик души поэта, который вновь охвачен пламенем страсти. Осознавая его непостоянство, девушка продолжала до самой смерти беречь отношения. Чувство вины, укор, неверность звучат в этих стихотворениях: «и страшный груз минутно приподнимет», мечтательность «и в мерцанье полусвета веет легкая мечта», рок, фальшь, порой жестокая бесчувственность: «Любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец».
Одной из особенностей произведений, входящих в «Денисьевский цикл», является признание от имени Елены: «Могу дышать, но жить уж не могу», «Он жизнь убил». Душа поэта ненасытна, постоянно требует новых эмоций. Он растоптал чувства ни одной влюбленной в него женщины, что нашло отражение в его творчестве.
Каждое стихотворение, относящееся к любовной лирике Тютчева, можно назвать «шедевром». Несмотря на трагический исход, роковые обстоятельства, недолговечность длящихся отношений, автор стихотворений с невероятной эмоциональной окраской изложил все свои переживания, которые передают читателю каждое движение его богатой души.
Также читают:
Картинка к сочинению Тема любви в творчестве Тютчева
Популярные сегодня темы
Вырин был вдовцом, работал станционным смотрителем и являлся, по словам Александра Сергеевича, «сущим мучеником четырнадцатого класса», потому что путники постоянно бранили его за то
Данная сказка очень интересна по своему содержанию. Дети почерпнут в ней одно, а взрослые люди – другое. Автор показывает два взгляда на жизнь. Взгляд мужчины и мальчика. Однако, те мысли, которые говорит ребенок очень глубокие
Рассказ «Горячий камень» – произведение философское. Его основная тема – размышления о смысле жизни и поиске ответа на вечный вопрос:
Одна из выдающихся композиций И.К.Айвазовского «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими судами» была задумана еще в далеком детстве, которое прошло в окружении, будоражившем фантазию художника
При первом знакомстве читателя с Дубровским, складывается впечатление, что человек он уверенный в себе. Он молод и совершенно не мучает себя мыслями о деньгах. Вопрос денег никогда не стоял ребром для Владимира
Тема любви в творчестве Ф. И. Тютчева
Литературная слава пришла к Тютчеву поздно, на шестом десятке лет его жизни. Невелико по объему его литературное наследие. Но А. Фет в надписи на сборнике стихотворений Ф. Тютчева справедливо заметил:
Муза, правду соблюдая,
Глядит, и на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.
Ф. И. Тютчев известен читателям как крупнейший поэт-лирик и как поэт-мыслитель. Его стихотворения о жизни, о природе, о любви и сейчас волнуют читателей глубиной и силой чувств, совершенством художественной формы.
Тема любви занимает важное место в творчестве Ф. И. Тютчева. Будучи человеком сильных страстей, он запечатлел в своей лирике все оттенки этого чувства. Как известно, за свою жизнь Тютчев пережил несколько любовных романов. Один из циклов стихотворений представляет собой лирическую повесть о любви поэта к Елене Денисьевой.
Уже в самом начале этого цикла любовь воспринимается как сильное, но трагическое чувство. В стихотворении «Предопределение» поэт переосмысливает распространенное понимание любви как соединенье двух сердец. Рассуждая о природе этого чувства, он воспринимает любовь как «поединок роковой». По мнению поэта, любовь — это борьба, в которой всегда слабее тот, кто больше любит:
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец.
Тему трагической сущности любви Тютчев продолжает развивать в стихотворении «О, как убийственно мы любим. » Здесь поэт с горечью рассуждает о том, что люди слишком небрежно относятся друг к другу, а более всего к тем, кого они любят:
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.
Любовь у Тютчева предстает как чувство настолько сильное и всепоглощающее, что оно ломает жизнь человека, губит его. Если при первой встрече возлюбленная была красива и мила, ее волшебный взор и «смех младенчески-живой» пленяли поэта, то уже через год красота ее поблекла:
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горячей влагою своей.
Радостный период любви, связанный с зарождением этого чувства, воспринимается поэтом как слишком недолговечный. Он сравнивает его с коротким северным летом и «мимолетным гостем».
Нужно отметить, что в этом стихотворении таке нашли отражения личные переживания Тютчева во время его романа с Еленой Денисьевой. Их отношения продолжались четырнадцать лет, однако Тютчев не уходил из своей семьи. На долю Денисьевой выпали сплетни и пересуды. Поэт осуждает себя за то, что не сумел защитить любимую:
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!
Более всего поэт ненавидит вмешательство других людей в отношения возлюбленных. Именно это обстоятельство, по его мнению, придает и без того роовому чувству еще более трагический характер:
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.
Ему хотелось бы отгородить свою любовь от внешнего мира, потому что именно влияние окружающих людей портит человеческие отношения. Радость любви уходит, оставляя лишь «боль злую, боль ожесточения».
И снова, убеждая читателя в трагической природе великого чувства, Тютчев завершает стихотворение той же строфой, что и начал. Только фраза «О, как убийственно мы любим!» теперь заканчивается не запятой, а восклицательным знаком. Если поэт начинал с рассуждения о природе любви, то теперь он подводит итог, убеждаясь в том, что любовь убийственна, трагична.
Таким образом, в понимании Тютчева, любовь — очень сильное чувство, но оно трагично с самого его возникновения, потому что в отношения двоих любящих людей проникает все зло и несправедливость внешнего мира. Однако, несмотря на это, в стихотворениях Тютчева не чувствуется пессимизма. Его стихи о любви завораживают своей силой и страстью. В творчестве Тютчева нередко звучали мотивы безнадежности и обреченности, но не в них значение его лирики. Притягательная сила его стихотворений в том, что поэт с особым мастерством передал в ней сложность, мучительность, напряженность и силу человеческих исканий и чувств.
Конкурсное сочинение на тему:«Любовь в лирике Ф.И. Тютчева
«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает», — так писал Лев Николаевич Толстой.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| f.i.tyutchev_sochinenie.doc | 136 КБ |
Предварительный просмотр:
МБОУ « Приютненская средняя школа № 2»
Конкурсное сочинение на тему:
«Любовь в лирике
Выполнил: ученик 10 «а» класса
ВДОВЕНКО Ирина Алексеевна
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Кто сердцу нашему милей!
«Говорят, сейчас другое время. Но ведь Поэзия осталась. Как остались рассветы и закаты, шорох листьев и осенняя звезда Альдебаран — звезда свиданий и разлук, без чего немыслимы и жизнь, и поэзия этой жизни, какой бы трудной она ни была», — так говорит наш современник, поэт Калмыкии Григорий Кукарека.
«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает», — так писал Лев Николаевич Толстой.
И действительно, настоящий поэт сам невольно и страданием горит, и жжет других. Таков Федор Иванович Тютчев, стихи которого мне очень нравятся.
Я думал, что со временем мои симпатии изменятся. Но вот мне уже шестнадцать лет, а Тютчев по-прежнему остается любимым поэтом. Возможно, мой характер, восприятие жизни в чем-то схожи с его, а может быть, я смотрю на мир его глазами. И хотя он жил более века назад, сила его чувств, мыслей волнует меня, как будто это писал мой современник. Да разве не современники нам все те великие люди, из сокровищницы гения которых мы черпаем и черпаем свои идеалы?
Имя Федора Ивановича я открыл для себя как новый мир, как новую планету. Тютчев многогранен, и каждая грань его творчества сверкает первозданной красотой откровенного и чистого сердца. Он — поэт Любви и Нежности, Страдания и Счастья, Преданности и воплощенной в любви Вечности, поэтому мне особенно дорога его любовная лирика.
Поэзия Тютчева о любви — это целая повесть, в которой есть свои прологи и начала, взрывы и кульминации, хаотические брожения души и гармонические разрешения. Есть и свои эпилоги.
Любовная лирика поэта пронизана глубоким трагизмом. Она наполнена драматическими, а нередко и мучительно неразрешимыми коллизиями, но в то же время олицетворяет высшую радость жизни.
Радость и горе в живом упоенье,
Думы и сердце в вечном волненье,
В небе ликуя, томясь на земле,
Жизни блаженство в одной лишь любви.
Любить и заставлять страдать — удел Тютчева. Осознание этого тяготило его, ужасало и отталкивало от собственного « я ». После смерти первой жены Элеоноры на жизненном небосклоне Поэта засверкали две звезды, одинаковые по силе и неизбывности своего чувства, высоте женского самопожертвования и великого Всепрощения. Два милосердных существа, два ангела, охраняющие его Творчество и Жизнь. Эти две звезды — две женщины — Эрнестина Федоровна Тютчева и Елена Александровна Денисьева — Нести и Леля. Это их слезы, чистые, как горное озеро, и горячие, словно огненная лава вулкана, обжигали душу поэта, заставляя ее страдать, в страдании очищаться и возноситься в поэтическое мироздание вселенского вдохновения.
Особое место в любовной лирике занимает « денисьевский» цикл. Эти стихи представляют собой лирическую повесть о любви, пережитой поэтом « на склоне лет» , — о любви к Елене Денисьевой.
Любовь немолодого поэта и девушки была « незаконна», ставила их в кризисное положение, а вся обстановка русской официальной и неофициальной жизни усугубляла эту кризисность.
Чему молилась ты с любовью,
Что, как святыню, берегла,
Судьбу людскому суесловью
На поруганье предала
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв доступных ей.
Их связь длилась четырнадцать лет, вплотную до смерти Денисьевой. Любовь эта была горька для обоих, но особенно тяжела для Елены Александровны, которую тяготило двусмысленное положение незаконной жены. В ее страданиях и ранней смерти Тютчев винил прежде всего себя:
Любила ты, и так, как ты любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О господи. и это пережить.
И сердце на клочки не разорвалось.
Памятником остался « денисьевский» цикл — первый в русской литературе лирический роман, как бы поэтический аналог многим будущим романам Достоевского, да и толстовской «Анне Карениной» тоже.
В ряду лучших созданий поэта выделяются замечательные по своей психологической глубине стихотворения: « О, как убийственно мы любим. », « Предопределение», « Последняя любовь» и другие. Из всех мне особенно нравится стихотворение — «Предопределение».
Любовь, любовь — гласит преданье –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И. поединок роковой.
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец.
Какие проникновенные строки! Я нередко задавался вопросом: « Почему же любовь — « поединок роковой?» Но когда внимательно прочитал биографию поэта, то понял, что это борьба между героями — Эрнестиной Федоровной и Еленой Александровной.
Глубокую любовь — привязанность, любовь — нежность, любовь — дружбу, любовь — уважение поэт испытывал к Нести, своей законной жене, которая вела себя достойно в этой сложной ситуации любовного треугольника. Нести в великой любви к Тютчеву возвысилась до понимания его испепеляющих сердце страданий. Удары судьбы, сыпавшиеся на Тютчева, она ослабляла своим присутствием, своей готовностью защитить, принять, простить, примиряла его с самим собой. Бичующий кнут самоистязаний и горьких раскаяний Нести приглушала своим прощением.
Настоящую любовь — страсть, сжигающую и опустошающую душу, поэт испытывал и к Леле. Но ни от одной любви Тютчев отказаться не мог.
Две параллели в жизни неслиянны
Неразделимо устремились ввысь
И осиялись светом первозданным –
В стихе одном два ангела сплелись.
В этом любовном поединке сердец, в котором одно, отдавшее себя полностью другому ( « им, им одним живу я »), стремится другое получить в свое безраздельное владение, а это невозможно, потому что высшее природное назначение женщины и мужчины разное.
Она пришла в этот мир, чтобы сохранить и продолжить жизнь в нем; в идее материнства — высшее ее назначение, здесь цель и смысл ее жизни; любовь, дети, семья — это главное.
Он пришел в этот мир, чтобы изменить его. Но как изменить и зачем, если все кончается смертью. Перед этими мучительно трудными вопросами он часто оказывается беспомощным. Любовь в его жизни — это только часть ее, другая часть — в действии, в борьбе, в идее. Она — « душа», он — «дух», и гармония между ними недостижима без « веры».
Гармония в любви, счастье с другим человеком в художественном мире Тютчева невозможны, потому что нет примирения человека с внешним миром, миром хаоса и « всепоглощающей бездны». Потому и любовь, и вся жизнь — это только сон:
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек.
Очень примечательно, что большая часть любовной лирики Тютчева носит ярко выраженный музыкальный характер. Вот строки одного из самых прекрасных, навсегда вошедших в наши души романса:
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило:
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло.
Комментаторы и исследователи жизни Тютчева скрупулезно устанавливают реальные факты, события и образы, стоящие за стихами. Эти замечательные строки поэт посвятил образу Амалии Крюденер. Поистине трогательный романс! Как проникновенно он звучит! Его слушает уже не одно поколение людей, и всегда он вызывает у всех восторженные чувства.
Музыкальность, символика и аллегория, многословность лирики поэта позволяют считать поэзию Тютчева истоком символического направления XX века.
Любовь, если глубже вглядеться, — это солнце поэзии Тютчева. Поэт наделен неутомимой потребностью любить, поклоняться, верить, и атмосфера любовной страсти воспоминаний о пережитой любви овевает всю его поэзию.
Тут не одно воспоминание,
Тут жизнь заговорила вновь —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь.
Федор Иванович Тютчев — национальная гордость России. Пройдут десятилетия, отметят новые юбилеи, получат славу другие поэты, но имя Тютчева вечно будет занимать в их плеяде почетное место. А благодарные потомки всегда будут грустить и печалиться над стихами человека, который, подобно яркой комете, пронесся над Россией.
Сочинение на тему «Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева»
Без него нельзя жить. Л.И. Толстой
С детских лет с нами стихи Федора Ивановича Тютчева. Я еще не умела читать, но уже знала наизусть:
Внимание!
Если вам нужна помощь с работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке
В России все — от мала до велика — знают это стихотворение. Строки стихотворения “Весенняя гроза”, его образы и его звучание слились для меня с образом и звучанием весенней грозы, стали ее выражением. Оно давно стало наиболее емким и поэтически точным выражением грозы над полем, лесом, садом, над зелеными просторами зачинающейся весны в России.
Внимание!
Если вам нужна помощь с работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.
Стихотворение “Весенняя гроза” по праву называют классическим. Оно выдержало труднейшее испытание временем и осталось живым произведением русской поэзии.
Несколько слов я хочу сказать о самом поэте. Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в селе Овстуг Орловской губернии, в семье брянского помещика И.Н. Тютчева.
Первоначальное образование он получил дома, под руководством поэта Раи-ча, пробудившего в своем питомце любовь к литературе.
Пятнадцатилетним мальчиком за стихотворное подражание поэту Горацию Тютчев был избран сотрудником Общества любителей российской словесности. По окончании Московского университета Тютчев поступил на службу в Коллегию иностранных дел и в 1822 году был послан за границу. Там, в Германии и Италии, он прожил двадцать два года. Многолетнее пребывание за рубежом только внешне отдалило Тютчева от Родины.
На чужбине Тютчев вырос глубоко своеобразным поэтом-лириком, изумительным мастером русского слова.
Скидка 100 рублей на первый заказ!
Акция для новых клиентов! Разместите заказ или сделайте расчет стоимости и получите 100 рублей. Деньги будут зачислены на счет в личном кабинете.
Своеобразной была судьба Тютчева — поэта. Долгое время в читательских кругах его или попросту не замечали, или же считали поэтом “для немногих”. Когда-то И. С. Тургенев утверждал: “О Тютчеве не спорят, — кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии”. Но поэты бывают разные, и сама поэзия многолика. Любовь к тому или иному поэту зависит прежде всего от причин субъективных, индивидуальных, и навязать ее нельзя. Некогда Фет назвал Тютчева “одним из величайших лириков, существовавших на земле”.
Тютчева принято называть певцом природы. Автор “Весенней грозы” и “Весенних вод” был тончайшим мастером стихотворных пейзажей. Но в его вдохновенных стихах, воспевающих картины и явления природы, нет бездумного любования.
Когда я читаю и перечитываю стихотворения Федора Ивановича Тютчева, то размышляю о загадках мироздания, о вековечных вопросах человеческого бытия. Идея торжества природы и человека пронизывает собою лирику Тютчева, определяя некоторые основные особенности его поэтики. Для него природа — такое же одушевленное, “разумное” существо, что и человек: “В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык…” Через обращение к природе Тютчев нередко раскрывает сложный мир человеческой души во всем богатстве его переживаний.
К лучшим созданиям Тютчева принадлежат и любовные стихотворения, проникнутые глубочайшим психологизмом, подлинной человечностью, благородством и прямотой в раскрытии сложнейших душевных переживаний:
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
Это одно из самых моих любимых стихотворений. Читаешь его и слышишь неповторимый голос Козловского, поющего этот романс. Это одно из самых задушевных стихотворений поэта. На склоне лет Тютчев испытал самое большое в своей жизни чувство — любовь к Е.Л. Денисьевой. Именно с этой “последней любовью” связаны многие шедевры тютчевской лирики:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя…
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?
Или другие пронзительные строки:
Чему молилась ты с любовью,
Что, как святыню, берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Эти и другие стихотворения (“Не говори: меня он, как и прежде, любит…”, “…Весь день она лежала в забытьи…”), взятые вместе, образуют так называемый “денисьевский цикл”, по своей проникновенности и трагической силе в передаче сложной и тонкой гаммы чувств не имеющий равного не только в русской, но и в мировой любовной лирике. Эти лучшие образцы любовной лирики Тютчева тем замечательны, что в них личное, индивидуальное, пережитое самим поэтом, поднято до значения общечеловеческого. Тютчев писал о природе, писал о любви. Это и давало, казалось бы, основание относить его к жрецам “чистой поэзии”. Но великий критик Н.А. Добролюбов находил, что поэту доступны “и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая душа, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни”. К числу таких дум о современности принадлежит и замечательное стихотворение “Русской женщине”, рисующее беспросветную женскую долю старой России:
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои…
И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облик дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле…
В другом стихотворении — “Эти бедные селенья…”, несмотря на славянофильскую идеализацию терпения и смирения, якобы присущих русскому народу, сказались свойственный поэту гуманизм, и гражданский пафос, и чувство Родины: “Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа”.
Поэзия Тютчева — это своеобразная лирическая исповедь человека, посетившего “сей мир в его минуты роковые”, в эпоху “старых поколений”, вынужденных уступить дорогу “новому, младому племени”. И в то же время он сам — детище нового века — несет в своей душе “страшное раздвоение”. Как ни горько ему плестись “с изнемождением в кости, навстречу солнцу и движенью”, он испытывает не тоскливое томление о прошлом, а страшное влечение к настоящему.
Скидка 100 рублей на первый заказ!
Акция для новых клиентов! Разместите заказ или сделайте расчет стоимости и получите 100 рублей. Деньги будут зачислены на счет в личном кабинете.
Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Не о былом Аврора льет, —-
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.
Эти строки многое разъясняют в лирике Тютчева.
Стремление жить в “настоящем” было до конца дней присуще поэту.
Читая стихи Тютчева, я вновь и вновь поражаюсь неисчерпаемому богатству русского языка.
Взыскательное отношение к стихотворному мастерству отличает Тютчева. Несмотря на то, что поэт “не писал, а лишь записывал свои стихи”, он не раз возвращался к записанному, отделывал, отчеканивал то, что как бы невольно сорвалось с его пера, добиваясь предельной ясности и точности образа.
В своем знаменитом стихотворении “Silentium! (Молчание!)” поэт признавался:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Однако стихи Тютчева служат лучшим доказательством не бессилия, а могущества слова. Мысль никогда не оборачивалась в них ложью. И как бы ни был сложен в душе поэта строй “таинственно-волшебных дум”, они, вопреки его собственному сомнению, все больше и больше находят путь к сердцу другого.
Сочинение на тему «Любовная лирика Тютчева»
Любовь… Это слово чувственно замирает на языке. От него веет сладостью, негой. Оно вдохновляет, воодушевляет и будто бы воскрешает всё лучшее, что есть в душе человеческой. Считается, что Гении особенно тонко чувствуют всё, что происходит вокруг. Их мироощущение в тысячу раз более обострено, чем у обывателя. Поэты же, как звёздочки из плеяды Гениев, как нельзя больше нуждаются в чувствах, в эмоциях, которые позже выльются на бумагу в виде написанных дрожащей от волнения рукой строчек, с прыгающими буквами, с кляксами чернил на листках…
Любовь — то удивительно чистое, прекрасное чувство, без которого не может жить человек — он лишь существует. Именно поэтому не найдётся, пожалуй, ни одного поэта (даже у строгих классицистов) в лирике которого отсутствовала бы тема любви. Разумеется, у каждого стихотворца она своя: у Лермонтова, к примеру, неразделённая, болезненная, жестокая, а у Некрасова — сложная и многообразная.
Учитель проверяет на плагиат?
Закажи уникальную работу у за 290 рублей
Связаться с нами:
Абсолютно всегда любовная лирика связана с моментами биографии поэта. Его личные переживания, эмоции находят выражение в стихотворениях.
Федор Иванович Тютчев, как его называли, «певец природы», не был чужд влюблённости. Этот человек, видимо, как и А.С. Пушкин, нуждался в любви. Однако если «солнцу русской поэзии» важно было именно ощущать любовь в своём сердце, то Тютчев находил упоенье лишь в ответных чувствах зазнобы. В его жизни было четыре женщины, в которых он был безумно влюблён. С двумя из них он связал себя узами брака. Любовь к Тютчеву оборачивалась трагедией для трёх из них, но их жертва оказалась не напрасной — благодаря этому были созданы удивительные в своей красоте и тонкости произведения, которыми зачитывались современники поэта и которыми продолжают восхищаться потомки.
В Мюнхене Фёдор Иванович знакомится с красавицей Амалией фон Лерхенфельд. Молодой Тютчев горячо влюбляется в девушку и даже предлагает ей стать его женой, однако её родственники отказывают дипломату и выдают Амалию замуж за другого. Пламенная страсть проходит у обоих. Поэт посвящает Амалии стихотворения, самым известным из которых становится «Я помню время золотое…». Бывшие влюблённые навсегда сохранят дружеские отношения. К сожалению, это будет единственная женщина в жизни Тютчева, которая не пострадала от его любви. Будучи уже пожилым человеком, он вновь встречает Амалию в Карлсбаде. В его душе оживают воспоминания о прекрасных чувствах, и он создаёт бессмертное «Я встретил вас — и всё былое…». Это удивительное по силе и красоте стихотворение, в котором проскальзывает нотка о быстротечности жизни, о сладости и чистоте любви. Лирическая героиня и вовсе предстаёт в стихотворении как неземное существо — пожалуй, как Анна Керн, однажды воскресившая душу поэта, находящегося в ссылке в Михайловском.
В дальнейшем тютчевская лирика будет всё чаще приобретать минорную тональность. Своей первой супруге, Элеоноре Петерсон, он посвятит не так уж много произведений — и все они будут написаны лишь после трагической гибели супруги, не сумевшей справиться с нервным потрясением, которое она получила, спасая детей во время кораблекрушения. К десятилетию её кончины он напишет:
Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой…
Элеонора Тютчева вынуждена была погибнуть от любви — да-да, именно так. Она с трудом перенесла предательство мужчины, которого любила всем сердцем, матерью троих дочерей которого она стала. Измены подкосили её здоровье, а продолжающийся на стороне роман окончательно добил слабую влюблённую женщину. Сложно сказать, был ли Тютчев влюблён в супругу. Однако он уважал силу её духа, её невыразимое достоинство, гордость. Своим родным он напишет: «Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня… Не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня» (по В. Кожинову). Эти слова окажутся страшным пророчеством: первая супруга поэта попытается свести счёты с жизнью, ударив себя кинжалом, чтобы не мучиться самой и, главное, позволить мужу быть счастливым с другой женщиной.
Вторая супруга Тютчева, Эрнестина, повторит судьбу Элеоноры Тютчевой. Выйдя замуж за горячо любившего её поэта, первые годы она будет купаться в его любви, но после в их жизни появится молодая Елена Денисьева, которой, впрочем, Тютчев так и не подарит радостей супружества.
Эрнестине посвящено множество стихотворений. Поэта восхищала красота супруги. Он писал:
Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг…
Однако сладость супружеской жизни в его лирике вскоре уступит чувству вины. В период страшного духовного метания между двумя любимыми женщинами, Еленой Денисьевой и законной супругой Эрнестиной, будут созданы стихотворения, в которых любовь по Тютчеву становится страшным пороком, греховной страстью. Фёдор Иванович осознаёт, какую боль он причиняет и себе, и любимым, поэтому разделённая любовь для него есть проклятие. Он также ощущает безмерную вину перед Эрнестиной и чувствует благоговейный трепет перед её смирением и терпеньем. После его смерти в гербарии она найдёт написанное для неё стихотворение, в котором будут следующие строки:
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе-
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе…
Наибольшую известность получил так называемый «Денисьевский цикл» стихотворений, посвящённых любовнице пожилого поэта, своеобразная стихотворная летопись их отношений — и зашифрованный личный дневник Тютчева. В этом цикле остро проявляется двоякое отношение автора к любви: с одной стороны это сладость отношений с возлюбленной, но с другой — безмерное страдание, осознание неправильности происходящего — и болезненная невозможность отказаться от этих чувств. Поэт тяжело переживает жертву, на которую идёт Денисьева: от неё отворачивается отец, ей приходится забыть о карьере фрейлины, а многие светские дома демонстративно закрывают перед ней свои двери. Но несмотря на ужасающую в своей жестокости травлю красавица Елена отказывается от всех жизненных благ ради любви к поэту, ради счастья которого она так легко готова положить на алтарь собственную жизнь. Страдая, Фёдор Иванович посвятит Денисьевой следующие строки:
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!
К тому же он остро ощущает окончание своей жизни. Его и пугает, и радует то, что отжившее, как могло показаться, сердце к концу жизненного пути вновь воскресает, может чувствовать. Этой теме посвящено произведение «Последняя любовь».
Елена Денисьева в произведениях Ф.И. Тютчева всегда представлена в обожествлённых образах: она то мученица, с достоинством несущая незаслуженный крест, то ангел, херувим, своей чистотой и невинностью спасающая лирического героя его стихотворений. Благодаря этому отношению к возлюбленной и создаётся такая невероятная одухотворённость и лёгкость любовной лирики Тютчева.
Любовь у Фёдора Ивановича — минорное настроение. Любовь — разрушительная, но притягательная стихия, в которой не получается не погибнуть. Она — борьба, безнадёжность и мучение. Любовная лирика у поэта невероятно трагична — и она не имеет аналогов ни в русской, ни даже в мировой литературе. Несмотря на то, что выхода из трагедии Тютчев так и не находит, его сердце остаётся открытым для чувств, для внутреннего горения. А память о своих возлюбленных он и вовсе пронесёт через всю жизнь.

 «Средь шумного бала, случайно…». Единственная любовь А. К. Толстого.
«Средь шумного бала, случайно…». Единственная любовь А. К. Толстого.
Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сиянье правды вечной
Нам врозь не суждено.
А.К.Толстой
«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» Эти строки я вспомнила не случайно, они возникли в моей памяти после прочитанного стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала, случайно…» Уж слишком похожая ситуация: бал, незнакомка, страстное увлечение. Да, было время, когда мужчины боготворили женщин, называли их «гениями чистой красоты». Про «мимолётное виденье» в лице Анны Керн мы в школе узнали, а вот про незнакомку Алексея Константиновича мне захотелось выяснить самостоятельно, тем более что в августе исполнилось 200 лет со дня рождения одного из самых недооцененных русских поэтов, писателей и драматургов второй половины 19-го века. Моё любопытство было вознаграждено, так как я прочитала о настоящей любви, которая, как это ни банально звучит, преодолевает все преграды.
В одной графской семье родился мальчик Алёша, как сейчас говорят, с серебряной ложкой во рту. С раннего детства он не знал недостатка ни в средствах, ни в любви ближних. Его возили в путешествия за границу, он был дружен с будущим царём Александром 11. Даже развод маменьки с отцом не омрачил его существования, ведь к воспитанию ребёнка подключился его родной дядя Алексей Алексеевич Перовский, посвятивший ему детскую сказку «Чёрная курица, или Подземные жители».
Наконец из обласканного жизнью подростка сформировался двухметровый красавец, приветливый и остроумный молодой человек, одарённый незаурядной памятью и недужинной силой, что гнул подковы с лёгкостью, даже медведя заламывал на охоте. Но сильный мужчина робел перед строгим взором матушки Анны Алексеевны и уступал её железной воле. А она не хотела делить своего единственного сына – красавца ни с одной барышней на выданье и постоянно пресекала все его романтические отношения, что и произошло с Еленой Мещерской, с графиней Клари и многими другими. У неё всегда находились причины: то срочная поездка за границу, то неотложный визит к родственникам, то собственная мнимая болезнь. И сын постепенно смирился, сопровождал свою матушку повсюду: в театр, светские салоны, к подругам. Да, не очень весёлое времяпровождение для тридцатилетнего мужчины.
И вот однажды… Зимний вечер 1851 года. Бал-маскарад в Большом театре. Таинственная незнакомка в полумаске с лучистыми глазами. Чем же она так поразила двух холостяков, Толстого и Тургенева? Голосом, напоминающим «звон отдалённой свирели», печальными глазами, великолепной фигурой, крохотной ножкой, мелькнувшей из-под платья. Под впечатлением Алексей Константинович не мог заснуть до утра и написал своё самое знаменитое стихотворение с заключительными словами: «Люблю ли я тебя, я не знаю – но кажется мне, что люблю!» Через несколько дней Толстой и Тургенев встретятся с незнакомкой, и Иван Сергеевич разочаруется, увидев «лицо чухонского солдата в юбке». А вот Толстой, наоборот, будет в восторге, он влюбится в Софью Бахметеву – Миллер страстно и на всю оставшуюся жизнь. К моменту встречи он был уже известным поэтом и писателем, его фантастические произведения («Семья вурдалака», «Встреча через триста лет», «Упырь») получили читательский успех и похвалы критика Белинского. Софья Андреевна тоже обладала известной репутацией: скандальная любовь к князю Вяземскому, закончившаяся дуэлью Вяземского с братом Софи и гибелью последнего; несчастливый брак с ротмистром Миллером; многочисленные сплетни о её романах.
Представляю, как была возмущена матушка Анна Алексеевна, узнав о новом увлечении сына, как терзалось её материнское сердце, сколько сил она приложила, чтобы пресечь любовь на начальном этапе. Но всё напрасно. Алексей Константинович сразу возвёл Софью на пьедестал. Она стала для него высшим судиёй во всём: в его литературных вкусах, в его жизненных взглядах. Ей первой он давал читать свои новые стихи, она стала для него «артистическим эхом». А почему бы и нет? Ведь Софья Бахметева была женщиной незаурядной, очень умной и образованной, знала множество иностранных языков (четырнадцать или даже шестнадцать!), много читала, переписывалась с Тургеневым И.С., Гончаровым И.А. Она стала для Толстого не только возлюбленной, но и другом, помощницей. Ей посвящены многие его стихи: «Не ветер, вея с высоты», «То было раннею весною», «Не верь мне, друг», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад» и другие. Кто знает, появился бы на свет Козьма Прутков, если бы не Софья Андреевна? Шуточные стихи, пародии и пьесы, которые он сочинял с двоюродными братьями Жемчужниковыми, проходили строгую цензуру у жены, так как она обладала отменным чувством юмора. Во время их совместной жизни были написаны самые известные исторические произведения: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис», «Посадник» и, конечно, легендарный «Князь Серебряный». А всё потому, что Софья Андреевна помогла Алексею Константиновичу поверить в его писательский талант, уйти в отставку с государственной службы и заняться творчеством.
В русской литературе много имён женщин, ставших музами для поэтов и писателей, но не каждая из них может соперничать в верности и преданности с Софьей Бахметевой. Она, как декабристка, отправилась на войну за мужем, когда узнала, что он заразился тифом и смертельно болен. Она поселилась в тифозном бараке, выхаживала любимого Алексея, кормила с ложечки, мыла, перестилала бельё. Именно тогда они дали друг другу клятву не разлучаться ни в этом мире, ни в ином. Только смерть матушки и долгожданный развод Софьи с Миллером дали им возможность через 12 лет после первой встречи сочетаться законным браком. Любовь Алексея Константиновича и Софьи Алексеевны с годами не ослабела, и письма Толстого, написанные жене в последние годы его жизни, дышат той же нежностью, что и строки первых лет их общения: “…не могу лечь, не сказав тебе…, что ты мое единственное сокровище на земле…».
Я считаю, что Алексей Константинович боготворил свою жену, а история их любви стала одной из самых известных и светлых в истории русской культуры.
Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно!
Все, что не ты, – так суетно и ложно,
Все, что не ты, – бесцветно и мертво….
10 декабря 2021 г. 16:21
Протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983) — выдающийся пастырь, мыслитель, педагог и проповедник, автор научно-богословских сочинений и эссеистской прозы, много сделавший для Православной Церкви в Америке. Осмысление его богословского и литургического наследия, ставшего важной частью церковной науки XX века, особенно актуально в связи со столетием со дня рождения пастыря, которое приходится на этот год.
Фундаментальные богословские труды протопресвитера Александра были посвящены главным образом вопросам церковной истории, постижению истоков и сокровенного смысла православного богослужения и церковных таинств. О том, что сам профессор считал главным в своем богословии, о значении его идей для современной богословской науки рассуждает кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии священник Антоний Борисов (№ 12, 2021, PDF-версия).
Различать Божественное и человеческое
Протопресвитер Александр Шмеман для многих представителей православного духовенства и мирян является примером священнослужителя, открытого для всего нового, жертвенно служащего Богу и людям, ищущего действенные способы достучаться до умов и сердец современников.
Подобное мнение о нем сложилось не только благодаря многочисленным печатным трудам покойного пастыря. Воспоминания людей, знавших богослова лично, прямо указывают на его подлинно христианское отношение к жизни и своему служению. По словам его близкого друга, тоже уже покойного, Н.А. Струве, последние дни земной жизни отца Александра были наполнены покаянием с готовностью полностью принять волю Божию: «Полтора года назад Господь посетил Своего верного слугу тяжелым испытанием: болезнью, оставляющей мало надежды на выздоровление. О. Александр не только переносил ее с полным терпением и смирением, но до самых последних дней не переставал ощущать радость и благодарить Бога за все. Роковая болезнь дала о. Александру положить печать подлинности тому, что было сердцевиной его проповеди и священства за целую жизнь: Всегда радуйтесь. За все благодарите (1 Фес. 5:16, 18)»1.
Вклад отца Александра Шмемана в развитие богословской науки является огромным. Именно благодаря ему в нашей Церкви сегодня обсуждаются многие действительно актуальные вопросы. Любые же обвинения в обновленчестве и модернизме, звучащие в адрес покойного, по словам священника Владимира Вукашиновича, «поверхностны и неточны»: «Шмеман стоит не только на позициях, крайне далеких от всякого либерального модернизма, но даже в отдельных случаях крайне умеренных и консервативных»2.
На чем же тогда зиждется убежденность некоторых людей в наличии у протопресвитера чуть ли не протестантских симпатий? Как кажется, на факте проявленного им однажды дерзновения. В предисловии к своему самому, как принято подчеркивать, «научному» труду — «Введению в литургическое богословие» он вспоминает, как отважился снять определенного рода табу: запрет, который касался использования историко-критического подхода к изучению «сферы богослужения, литургической жизни, литургического опыта»3.
Во многом благодаря отцу Александру православный исследователь получил определенного рода свободу в рассуждении над тем, что в нашем богослужении является проявлением богооткровения, а что — исключительно человеческим вкладом. Избавление от табу, снятого литургистом, позволило существенно расширить границы деятельности богослова-исследователя, который теперь оказался способен изучать иные области церковной науки с позиции того, с чем он в данный момент имеет дело, — с Преданием (формой богооткровения) или с преданиями (человеческими обычаями той или иной степени древности)4.
Почему это важно и необходимо? По одной простой причине. Здравое различение Предания и преданий позволяет православному христианину избежать перекоса в одну из сторон, отклонения от святоотеческого «царского» пути. Низведение Предания до уровня преданий неминуемо превращает духовную жизнь в квазирелигиозность постмодерна, презрительно относящуюся к традициям и обрядам, — отсутствие живого чувства Откровения делает самого человека мерилом духовности и тем самым лишает эту духовность Божественного содержания. В том случае, если предания возводятся на уровень Предания, мы получаем иной, но не менее печальный результат. Подобное отношение превращает церковное сообщество в клуб с особенными правилами поведения, гардеробом, питанием и др. Причем каждый из перечисленных элементов возводится в статус чуть ли не догмата.
Главный ориентир
В каждом отдельном случае и вне зависимости от избранной области (догматика, библеистика, каноника, но прежде всего в области литургической) при стремлении определить, что же перед нами — Божественное или человеческое, мы оказываемся перед непростой задачей. Как отделить вечное от временного? Как актуализировать внешнюю оболочку традиции, не нанеся ущерб ее духовной сердцевине? Как кажется, и в данном случае помочь может отец Александр, не только обозначивший указанную проблему, но и давший инструментарий для ее преодоления.
Автор в своих произведениях неоднократно упоминает идею «отнесенности к главному», которой пронизано его богословское и проповедническое наследие. «Отнесенность» — основное ощущение автора, с детства определившее его религиозный опыт, «интуиция о присутствии в этом мире чего-то совершенно, абсолютно иного, но чем потом все так или иначе светится, к чему все так или иначе относится»5. Сам профессор не смог дать понятию «отнесенности» какого-то строгого фиксированного определения6. Хотя явным образом суть этого явления ощущается при чтении строк, посвященных А.И. Солженицыну: «Символом этой отнесенности в романе «В круге первом», например, является Рождество. <…> Зачем понадобилось Солженицыну это Рождество? <…> Но вот, оно есть, оно вспыхнуло своим светом вначале, и его свет незримо озаряет всю эту, казалось бы, мучительную безнадежную повесть. И оно есть в повести потому, что для Солженицына оно есть в мире. <…> …Чтобы отнести всех этих страдающих и умирающих людей к главному — чтобы ясным стало изображение вечности, зароненное каждому»7.
Отсутствие четкого определения «отнесенности» не мешает указать на одно из главных и определяющих его свойств, а именно христологичность. Иными словами, установление и поддержание в лице Господа Иисуса связи между Божественным и человеческим; присутствие благодаря пришествию Спасителя в материальном мире жизни Духа, Который не растворяется в тварной реальности, не бежит от нее, но оживотворяет изнутри того, кто в Боге нуждается и к Нему стремится. «Отнесенность» есть еще и та таинственная, но ощутимая связь, которая присутствует в Православии между Преданием и преданиями. В пастырском аспекте она («отнесенность») должна поддерживаться Церковью в «рабочем» состоянии прежде всего в формате богослужения для сохранения (наряду с упомянутыми в Символе веры) главного для отца Александра свойства Церкви — «литургичности», которая во Христе зиждется и только в Нем и благодаря Ему существует.
Именно «литургичность» в понимании автора превращает Церковь из «экклесии» (человеческого собрания) в Тело Христово (1 Кор. 12:27) — ту Богочеловеческую структуру, которую, по замечанию протопресвитера Николая Афанасьева, характеризует таинственное выражение «эпи то авто» (ἐπὶ τὸ αὐτό) (Деян. 2:1, 44, 47 и др.), означающее «на то же самое» и чаще всего переводимое на русский язык как «в одно место». «Эпи то авто», в разъяснении протопресвитера Иоанна Мейендорфа, «было техническим термином для обозначения евхаристического собрания. Специального слова в те времена не существовало, возможно, и потому, что первохристиане избегали прямо говорить о таинствах в смысле «обрядов», а понимали саму Церковь прежде всего в сакраментальном смысле. Церковь осуществляет себя, становится сама собою, когда ее члены сходятся вместе для свершения общего действа»8.
Это общее действо — Литургия — в основании своем и имеет для ученого идею «отнесенности» как опыта встречи с Тайной и выражение данного опыта при помощи верных символических средств. Символических в смысле античного σύμβολον — разломанной монеты или статуэтки, знака, позволяющего двум незнакомым до того лицам опознать друг друга9. Верное соотношение закона веры и закона молитвы (lex orandi lex est credendi) достигается только в том случае, если культурные коды нашего богослужения работают в соответствии с идеей «отнесенности» и становятся «мостиками» для верующего, позволяющими достичь главной цели — совершения литургического акта через личное словесное приношение в пространстве общей молитвы церковного собрания.
Тайна Божества, находящаяся в самой сердцевине жизни Церкви, принципиально отличает христианство от прочих религиозных течений, прежде всего гностицизма. Если гностики кичились обладанием некоей тайны, ограничивая доступ к ней всех прочих, то в лице Православия мы видим иное. «В контексте христианства под понятием «тайна» не подразумевается обозначение только того, что является непостижимым и таинственным, загадкой или неразрешимой проблемой. Напротив, тайна есть то, что открывает себя нашему пониманию, но что мы никогда не поймем до конца»10. Эти слова митрополита Каллиста (Уэра) указывают на еще одно свойство «отнесенности», имеющее не только возвышенное богословское, но и вполне практическое значение — когда тайна Божия в лице Церкви присутствует в мире, освящает его, но миру не подчиняется и в нем не растворяется.
Об этом отец протопресвитер, в частности, говорил во время беседы в г. Гринвилл (штат Делавэр, США) 22 мая 1981 года. Выступление это впоследствии переведено в текстовый формат и озаглавлено «Между утопией и эскапизмом». Здесь американский протопресвитер указывает на две серьезные опасности, возникающие перед Церковью, если она по какой-то причине утрачивает стремление к «отнесенности» или отказывается от нее. Исходом подобного выбора становится либо бездумное стремление к несуществующему «завтра» (утопии), либо бегство от мира, замыкание в пространстве самоценных представлений и субкультурных установок. И то и другое, по его мнению, противоречит евангельскому учению о Церкви как о Царстве Божием, которое Спасителем сравнивается или с дрожжами (Мф. 13:33), или с семенем (Мф. 13:31-32). И то и другое, чтобы принести плоды, должно быть помещено в мертвую до времени среду и преобразить ее изнутри11.
Утопия и эскапизм на подобное просто не способны. Первая, представляющая собой «максимальную проекцию в будущее»12, готова пожертвовать «сегодня» ради «поющего завтра». Но никто не ответит вам на вопрос — «С какой стати завтра должно петь? Ведь люди будут умирать, кладбища расширяться и т.д.»13. Никто и ничто по-настоящему не волнуют утописта здесь и сейчас. Он всем готов пожертвовать, все разрушить ради выдуманного им завтра. Странным дополнением к подобной установке отцу Александру видится не менее опасное явление — эскапизм, или бегство от действительности. Его он описывал следующим образом: «Уход от действительности начинается с некоего умственного расположения и продолжается как поиск разного рода духовного опыта. Всем известно, что Бога не найдешь на Бродвее в Нью-Йорке, Бога нужно искать на синих горах в Индии, в ашрамах, в методах созерцания»14.
Эскапист подобно утописту бежит от сегодня, но не ради достижения мифического завтра, а ради замыкания в пространстве выдуманной им действительности, никак не соотносящейся с реальной историей. Насколько подобное опасно, свидетельствует, например, опыт старообрядческого раскола XVI века: «Флоровский считал, что для старообрядцев вместе с реформами Никона кончилась священная история, и потому они уходили «из истории в пустыню». Но на самом деле не столько уход из истории, «внеисторичность», был следствием раскола, сколько, наоборот, раскол — следствием внеисторичности русской жизни»15.
Указанное обстоятельство вновь демонстрирует огромную опасность утраты обозначенной доктором богословия «отнесенности», которая (утрата) неминуемо заводит Церковь в ловушку, способную изъять человека или целую общность людей из живой истории, превратив их либо в гоголевского Манилова, равнодушного к настоящему, либо в носителей специфического субкультурья, напрочь оторванного от страданий дня сегодняшнего.
Сохранить верность Откровению
Шмемановская «отнесенность» призывает заботливо относиться к вопрошаниям истории, настаивает на освящении времени. Сын Божий однажды стал участником истории, но при этом не оказался ее пленником. В Спасителе миру была явлена освящающая и исцеляющая сила Божия, переданная Им Церкви и через нее указующая миру, что однажды для него наступит конец и одновременно полное изменение: «Вне эсхатологии невозможна христианская доктрина зла. Либо сам мир становится злом, либо же оно отождествляется с чем-то одним в мире (социальными структурами и т.д.). И то, и другое — ересь. Христа не нужно ни для ухода в мироотрицающий буддизм личного «спасения», ни для «социальной революции»»16.
Идея «отнесенности» не была выведена протопресвитером на основании каких-то сугубо теоретических изысканий, а имела вполне ощутимую опытную духовную основу. В «Дневниках» отец Александр Шмеман упоминает, что его память сохранила и разделила пройденную жизнь на четыре этапа: тридцатые годы — юность в Париже и причастность к лучшему периоду русской эмиграции; сороковые — война и закат прежнего мира, обретение семьи и рукоположение; пятидесятые — творчество и служение; шестидесятые — жертвенная вовлеченность в жизнь Православной Церкви в Америке и смерть друзей, единомышленников.
Наступившие семидесятые, а затем и восьмидесятые привели отца Александра к мысли: «И вдруг: такое сильное ощущение, что прошлого-то гораздо больше, чем будущего, что все отныне будет итогами, раскрытием того, что уже было, уже дано» (курсив из оригинала. — А.Б.)17. Уверенность в правильности выведенной им идеи «отнесенности» приходит к отцу Александру ровно в тот момент, когда внутри него возникает ощущение бренности жизни перед лицом Божественной вечности. С высоты прожитых лет он явственно понимал, насколько важно не поддаваться очарованию временного, человеческого и не пытаться заместить им Богооткровенное: «…изучение истории Церкви, конечно, должно освобождать человека от порабощения прошлому, типичного для православного сознания. Но это так в идеале, увы. Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и т.д., от увлечения, от «игры»»18.
«Исторический путь Православия» — еще один монументальный труд автора — почти каждой своей страницей показывает и доказывает, насколько опасной является догматизация второстепенного, обусловленная все той же утратой чувства «отнесенности». Вместо того чтобы придать статус неизменной богооткровенной истины смысловому ядру учения, вновь и вновь осуществляется попытка догматизации культурной оболочки, временного контекста керигмы. Это прекрасно видно на примере всех наиболее известных ересей и расколов. Все они в той или иной степени становились следствием неспособности ряда мыслителей пожертвовать собственными культурными предпочтениями ради сохранения верности Откровению.
Арианство, несторианство, монофизитство в различных своих более «легких» проявлениях (например, монофелитства и иконоборчества) строятся на концептах, заимствованных из тех или иных философских систем и возведенных в статус догмата. Римский католицизм, безусловно, является результатом поместного представления о роли апостола Петра и природе церковного первенства19. Имеющийся исторический опыт позволяет согласиться с выводом, который делает внимательный читатель «Дневников» покойный профессор МДА Н.К. Гаврюшин: «Множество верующих, не исключая и представителей духовенства, часто понимают христианство как некую совокупность правил, норм, ритуалов… которую охотно отождествляют с церковным Преданием. При таком номистическом, или законническом, разумении веры внешнее оказывается неизбежно важнее внутреннего. То, что в конкретный исторический момент времени было свидетельством живого творчества духа, воспринимается благочестивыми, но не вошедшими в разум Истины верующими как закон, обязательные вериги, ибо подлинно духовного мерила у них нет, а передать оное из рук в руки невозможно: его необходимо стяжать»20.
Указанное, впрочем, не означает, что богослов имел к временному выражению тайны Божественной вечности какое-либо презрение. Наоборот, идея «отнесения» помогала отца Александру видеть в литургическом наследии Церкви настоящую сокровищницу средств выражения богатства христианской веры. Но ему было важно, чтобы все это богатство не лежало мертвым грузом, а работало. Чтобы между человеческими преданиями и Божественным Преданием имелось напряжение «отнесенности», не позволяющее Церкви говорить с людьми на исключительно «своем» языке, сосредотачиваться на «своих» проблемах. Православие, по мнению протопресвитера, призвано прислушиваться к вопросам каждого нового поколения и уметь в том числе говорить на языке секулярной культуры. Богословие Церкви должно быть отвечающим, а не нападающим или защищающимся. В наше время недостаточно также лишь в одностороннем порядке возвещать людям некие истины. Надо отвечать на их вопросы. И ответы на эти вопросы должны быть выражены в таких культурных кодах, которые близки и понятны современным слушателям.
Именно в этом смысловом поле следует понимать неприятные на первый взгляд слова профессора: «Только в Церкви можно найти полный образ Христа. Это и есть дело богословия — и больше ничего. Но его одинаково заслоняют и «поп», и «богослов». Один поставил ставку (беспроигрышную) на вечную нужду человека в «священности», другой Самого Христа превратил в «проблему»»21. Здесь церковный историк пусть и резко, но в точности повторяет суть апостольской мысли, что никакой человек не имеет права занимать собой место Христа Спасителя или препятствовать общению с Ним, Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1 Тим. 2:5).
Практические предложения по реализации идеи «отнесенности» обнаруживаются в наследии публициста применительно к двум литургическим реформам: произошедшему глобальному изменению богослужебного уклада в Римско-Католической Церкви и, наоборот, несостоявшейся фиксации литургической традиции Православной Церкви в Америке по образцу дореволюционного лекала. В отношении первого отец Александр пишет неутешительные вещи. Модернистский кризис, развернувшийся у католиков на рубеже XIX-ХХ веков, не только, по мнению автора, не понудил Рим внутренне измениться, но, наоборот, усугубил имеющееся положение дел, когда вместо здоровых преобразований в лице II Ватикана произошла уступка сиюминутной выгоде запросов мира сего: «И за это Церковь (Католическая) расплачивается теперешней катастрофой. <…> Церковь ответила утверждением себя как голого авторитета (reductio ad absurdum) и как абсолютизма формул, то есть того же авторитета. И через несколько десятилетий лопнула — Ватикан II и вакханалия: разложение «авторитета»»22.
Искать в богослужении Христа
Католические реформы середины ХХ века стали для Шмемана не реализаций «отнесенности», не попыткой явить миру истинное эсхатологическое лицо христианства, присутствующего здесь, но говорящего о несводимом к земной реальности Царстве Божием, а еще одним неудачным опытом «очищения»: «Не случайно «постватиканская» Церковь протестантизируется (отказ от авторитета, от понятия “ереси”, от тональности «объективности»). <…> Протестантизм был попыткой спасти веру, очистить ее от ее религиозной редукции и метаморфозы. Но он это сделал ценой отказа от эсхатологии, замены ее «спасением» предельно личным, индивидуальным. И потому — в сущности — отказом от Церкви…»23
Легко указывать соседу на его неправоту. Значительно сложнее разбираться с собственными проблемами. Тут богослов, надо сказать, реалии нашей церковной жизни критикует нещадно: «На глубине Православие, мне кажется, давно уже «протестантизируется»: «верит» в нем каждый по-своему, но соединены все «религией», то есть храмом и обрядом. Отсюда двойное движение: если от религии к «вере», то к расцерковлению, к уходу в личную религию; если от «веры» к религии — то к Православию, Типикону, кадилу и иконам. Оба движения «неполноценны»: в одном торжествует индивидуализм (отрицание Церкви), в другом — «религия» (редукция Церкви) и, в сущности, тоже индивидуализм»24.
На практике (если говорить прежде всего о богослужении) подобное положение дел проявляет себя в одновременно существующем сохранении Типикона и неследовании ему, в переносе суточных форм богослужения на не предназначенное им время (служение утрени вечером, а вечерни утром), в сокращении служб на основании мнения настоятеля, служащего в данный день рядового священника, регента или даже чтеца. Перечислять эти проявления литургического кризиса можно и дальше, но все они приводят, по мнению отца Александра, к последствиям двух типов: 1) сведению богослужения до уровня службы-схемы (поскольку требования «догматизированного» Типикона в полной мере исполнить невозможно) или 2) игнорированию устава как такового, превращению его в «фон» для выделения отдельных ярких песнопений или иных богослужебных элементов («концертов»).
И здесь вновь выходит на передний план идея «отнесенности»: насколько сложившееся в литургической области положение дел позволяет человеку по-настоящему соприкоснуться с эсхатологической природой Церкви как зачатка грядущего Царства Божия? Если и позволяет, то с большими затруднениями. Отец Александр признает, что Православной Церкви необходима литургическая реформа, но не в духе той, что прошла сначала в протестантизме, а затем в католицизме. В данном случае его мнение в общем и целом совпадает с позицией его современника протоиерея Георгия Флоровского, одного из выразителей принципов «неопатристического синтеза», сводимого к вдохновляющему девизу «вперед — к отцам».
Церкви, по мнению богослова, необходимо вернуться к «православному пониманию Божественной литургии как общего моления, общего приношения, общего благодарения и общего причащения»25. Что на практике означает следующее: «…когда мы вернемся от наших новых и сомнительных обычаев к подлинной православной традиции, открывающейся нам в наших литургических текстах и комментариях отцов, будет исправлено прискорбное положение дел, преобладающее сегодня, при котором верующие более посетители, чем участники богослужения»26.
Литургическая реформа, таким образом, для автора не сводится к каким-то внешним действиям («Существуют проблемы, которые нельзя решить с помощью указов или инструкций. Они никогда не разрешали никаких реальных проблем и не похоже, что разрешат их когда-либо в будущем»27). Невозможно преодолеть кризис в области богослужения, редуцировав его до чего-то одного — подвергнув, например, изменению язык службы28 или ее структуру. Речь идет о более глубокой вещи — «богослужение по самой своей природе должно быть понятно и осмысленно и в каждой своей части, в каждом слове, и в целом. Спешим оговорить со всей силой: речь идет совсем не о приспособлении его ко вкусам верующих или «к духу нашего времени», еще менее — о его «упрощении». На наших глазах совершалось достаточно много попыток такого рода «модернизации» службы, и известно, к чему они приводят»29.
Проблема заключается в утрате частью духовенства и мирян понимания христоцентричности богослужения. Иными словами, утраты той самой «»отнесенности» всего к «другому», эсхатологизма самой жизни и всего в ней, который антиномически делает все в ней ценным и значительным. Источником же этого эсхатологизма, тем, что делает это «просвечивание», эту «отнесенность» возможными, является таинство Евхаристии, которым поэтому изнутри и определяется Церковь и по отношению к самой себе, и по отношению к миру, и по отношению к каждому отдельному человеку и его жизни. <…> …Для того чтобы этот опыт («проходит образ мира сего») стал возможным и реальным, нужно, чтобы в этом мире был дан также и опыт того самого, к чему все «отнесено» и относится, что через все «просвечивает» и всему дает смысл, красоту, глубину и ценность: опыт Царства Божия, таинством которого является Евхаристия»30.
Что же делать и как же быть? Проанализировать имеющееся положение дел с точки зрения идеи «отнесенности». Помогает ли нынешний уклад церковных традиций (в том числе богослужебных) совершить богослужебному собранию то, к чему призывают его слова анафоры: «Еще приносим Ти словесную сию и безкровную Службу, и просим, и молим, и мили ся деем: низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащыя Дары сия»? И если находится то, что оказывается пусть древним и привычным, но в конечном счете «средостением», мешающим «отнесенности к главному», Церковь призвана пастырски задуматься над тем, что для нее важнее — человек или суббота?
Православное христианство ставит перед всеми нами нетривиальную задачу: вместо овна или голубицы мы должны предложить Богу «словесное приношение», осуществить в пространстве соборной молитвы Евхаристии свой собственный литургический акт, который абсолютно ничем не похож на языческо-магическое действо. Не о семейном счастье или успехе в карьере призваны мы молиться на Евхаристическом богослужении, но искать и находить в нем Самого Христа, ибо сказано: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это приложится вам (Мф. 6:33). Иначе опыт Церкви будет «заменен опытом храма плюс индивидуальной религии, изнутри лишенной всякой веры в смысле «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом»»31
Наше словесное приношение Богу, с одной стороны, должно опираться на многовековую литургическую традицию Церкви, а с другой — призвано стать выражением всецелого стремления к Отцу Небесному: духом, умом, чувствами, всей душой и всем телом. Эта полная посвященность, осознанность и устремленность основываются на все той же «отнесенности» — стремлении стать частью церковной реальности соединения вечного и временного, явленного миру во Христе Спасителе Царства будущего века. «Спасение только в углубленном, церковном, соборном и пастырском продумывании и медленном пояснении самой сущности православного богослужения»32, пастырскому разъяснению духовного феномена которого, той самой «отнесенности к главному», посвятил многие годы своего служения приснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Священник Антоний Борисов
1 Струве Н. Православие и культура. 2-е изд. М.: Русский путь, 2000. С. 204.
2 Вукашинович В., свящ. Литургическое возрождение в ХХ в. История и богословские идеи литургического движения в Католической Церкви и их взаимоотношение с литургической жизнью Православной Церкви. М.: Христианская Россия, 2000. С. 157-158.
3 Шмеман А., протопр. Введение в литургическое богословие. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. С. 9.
4 «Если мы обратимся к апостольским посланиям, то увидим как бы два понимания церковного Предания: Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2 Фес. 2:15); Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас… (2 Фес. 3:6). В этих двух отрывках апостол Павел немного по-разному использует этот термин. В первом отрывке он говорит о преданиях во множественном числе, во втором он говорит о единственном Предании. Это выражение позволило православным богословам развить следующую идею: в Церкви есть Предание и предания. Что же такое предания? Это древние обычаи, которые получены со времен апостольских от Христа через апостолов и сохраняются до нашего времени» (Малков П. Введение в литургическое предание: Таинства Православной Церкви. 4-е изд. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 11).
5 Шмеман Александр, протопр. Дневники. 1973-1983. М.: Русский путь, 2005. С. 51.
6 «Что такое, в чем эта «отнесенность»? Мне кажется, что именно этого я никак не могу объяснить и определить, хотя, в сущности, только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не «идея»: отталкивание от «идей», все растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея «христианского мира», «христианского общества», «христианского брака» и т.д. «Отнесенность» — это связь, но не «идейная», а опытная. Это опыт мира и жизни буквально в свете Царствия Божия, являемого, однако, при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть именно конкретности, а не отвлеченности. И когда этот свет, который только в душе, только внутри нас, падает на мир и на жизнь, то им уже все озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом, ожиданием» (Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 52).
7 Шмеман А., протопр. Беседы на радио «Свобода». Т. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 429.
8 Мейендорф И., протопр. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии, 2007. С. 17.
9 «Греческие святые отцы называли Тело Христа, хлеб, на Евхаристии символом. Но они ни в коем случае не имели в виду, что это означает (как понимают это на Западе) чисто символическое присутствие Христа в Евхаристии. Они использовали слово «символ» для обозначения того, что западные теологи имеют в виду под понятием «реальное присутствие». Символ указывает на то, что одна реальность может не только означать другую реальность, но и являть и передавать ее нам, и поэтому символ — больше, чем знак. Я знаю, что химическая формула Н2О означает воду, хотя никакой воды в самой формуле нет. У символа нет подобных ограничений, он участвует в той реальности, на которую указывает. Символ не просто умозрителен и воображаем, он — онтологичен и экзистенциален. Это — реальность, которая во всей полноте выражается, является и сообщается через другую реальность» (Шмеман А., протопр. Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 242-243).
10 Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православный путь. СПб.: Алетейя, 2005. С. 21.
11 «Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукою, и не только прикасается, но даже смешивается с нею (потому и не сказано — «положи», но — «скры»), так и вы, когда вступите в неразрывную связь и единение со врагами своими, тогда их и преодолеете. И как закваска, будучи засыпана мукою, в ней не теряется, но в скором времени всему смешению сообщает собственное свойство, так точно произойдет и с проповедью. Итак, не страшитесь, что Я сказал о многих напастях: и при них вы просияете и всех преодолеете» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея: В 2-х кн. Книга вторая. М.: Cибирская Благозвонница, 2010. С. 11).
12 Шмеман А., протопр. Вера и Церковь: Сборник. М.: Книжный клуб Книговек, 2021. С. 437.
13 Там же. С. 438.
14 Там же. С. 441.
15 Хондзинский П., прот. «Ныне все мы болеем теологией»: Из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 27.
16 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 159.
17 Там же. С. 126.
18 Там же. С. 124.
19 Выступая в качестве наблюдателя перед участниками II Ватиканского собора, отец Александр констатировал следующее: «В структуре Церкви, безусловно, существует некоторый плюрализм, однако здесь о нем ничего не сказано. Здесь другие приоритеты… и что касается ex sese. В документе (догматической конституции Lumen gentium. — А.Б.) полномочия епископата постоянно рассматриваются как уступка, тогда как папе принадлежит безоговорочная власть. Каждое положение, касающееся епископата, имеет обязательную ссылку на папу и его полномочия» (История II Ватиканского собора. Т. III: Сформировавшийся собор / общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодрова, А. Зубова. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. (История Церкви). С. 85).
20 Гаврюшин Н.К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской духовной семинарии, 2011. С. 638-639.
21 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 72.
22 Там же. С. 157.
23 Там же. С. 348.
24 Там же.
25 Шмеман А., протопр. К вопросу о литургической практике (письмо моему епископу) / Текст: электронный // URL: http://pravoslavie.by/page_book/bogosluzhenie-i-tainstva.
26 Там же.
27 Там же.
28 «Переводчиками движет наивное убеждение, что если «знать» греческий, церковнославянский и английский, то даже с такими шедеврами православной гимнографии, как Великий канон святого Андрея Критского или Акафист Пресвятой Богородице, «не будет проблем». Но, сказать по правде, результаты выходят порой самые плачевные. В лучшем случае мы получаем вялые, невнятные и «сомнительные» (с точки зрения английского языка) тексты вроде следующих: «Не хвались, ибо ты есть плоть, и троекратно ты отречешься от Меня, — от Меня, Кого все создание благословляет и прославляет во все времена»; «Ты подведешь Меня, Симон Петр, — говорит Господь, — едва лишь произнесется это слово о тебе, хоть ты в себе и уверен, и служанка, приблизившись весьма скоро, повергнет тебя в смятение». В худшем же случае появляются примерно такие строки: «Телица рыдала, созерцая Тельца, повешенного на древе»» (Шмеман А., протопр. Проблемы Православия в Америке: Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 488-489).
29 Шмеман А., протопр. Богослужение и богослужебная практика: Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 175.
30 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 58.
31 Там же. С. 348.
32 Шмеман А., протопр. Богослужение и богослужебная практика. С. 176.
«Церковный вестник»/Патриархия.ru
Школа – это тюрьма
– Димуля, добрый день. Почти уже вечер спускается за окнами. Я поймал себя сейчас на мысли, что я еще никогда не брал интервью у Дмитрия Гордона. И для меня сегодня знаменательный день. Потому что это впервые. У меня еще такого не было. Ну, и для тебя сегодня знаменательный день, потому что у тебя берет интервью Дмитрий Гордон.
– Только хотел сказать.
– Я прочитал твою мысль. В общем, у нас раздвоение личности получается. Во-первых, я благодарен тебе, что ты согласился на это интервью. Во-вторых, я хочу у тебя спросить для начала разговора: вот с какого времени ты себя ощущаешь? Твои самые первые воспоминания, когда тебе сколько лет было?
– Три года.
– Поздновато.
– Ну, может быть, и раньше.
– Что ты помнишь? Какое воспоминание у тебя сохранилось об этом времени?
– Ну, было небо выше, трава зеленее…
– Звезды были ярче.
– Звезд не видел: спал тогда по ночам. Я помню Чкаловский парк очень отчетливо, возле которого я тогда жил. Помню немножко Белую Церковь. Помню, как мы гуляли на Крещатике. И помню, как в гости однажды должен был прийти дядя Феликс. Я почему-то очень радовался, хотя я не знал, кто это, и вообще не помнил, как он выглядит.
– Ты еще не знал, что он много ест.
– Не знал. Но имя веселое – и мне казалось, что это будет празднично. Поэтому очень ждал. Примерно такие воспоминания.
– У тебя в детстве был кот Герцог.
– Да. По-моему, он был позднее немного.
– Ты его называл Гейцог. Он был очень большой. И ты его страшно мучил.
– Да. Я знал, что будет этот вопрос, кстати.
– Я не знал, какой будет вопрос. Я себе не выписывал вопросов никаких. Я просто говорю с тобой о жизни. Но кота Герцога забыть трудно. Почему ты его так мучил? Ты его разрывал, я помню. Ты голову отдельно пытался, туловище отдельно как-то… Он от тебя прятался, он убегал, а ты все не унимался. Что это было?
– Ну, ты меня сейчас выставишь живодером. У меня потом проблемы в будущем могут быть по этому поводу. Я его на самом деле не так и мучил. Просто когда гости приходили, я показывал фокусы с ним. Я знал, например, что если его спрятать в корзинку и накрыть платком, потянуть за хвост, он там перевернется. И потом я открывал платок – и опа! – фокус. Но я не помню, чтобы я сильно его прямо так, до изнеможения, мучил. Разве что я мог ему мстить иногда, когда он меня больно царапал пару раз.
– Ну, кота решили отдать. Тебе сказали, что он поехал учиться…
– В цирковое училище, да.
– Да. Ты поверил в это?
– Я как-то не подумал, что в цирке нет котов.
– Ты думал, он будет дрессированным котом, – да?
– Может, единственным в своем роде. Я не знаю. Я вообще тогда играл в приставку. Я помню, приехала женщина – забрала его. И я как-то даже с ним не попрощался особо. Потом, когда уже я закончил, отложил – говорю: «Где Герцог?» Говорят: «Забрали уже». Я начал плакать тогда, мне жалко так стало…
– Расстроился, да?
– Да, да.
– Ты испытываешь угрызения совести? Во-первых, за то, что ты так мучил Герцога, а во-вторых, за то, что ты с ним не попрощался.
– Да. Вообще интересно, сколько он прожил. Наверное, его уже нет. Но…
– Но память о нем…
– Память о нем жива, да.
– Тебя греет.
– Да, да. Хороший был кот все равно. Жалко.
– Скажи: у тебя было счастливое детство?
– Да.
– В чем заключается счастье для тебя в детстве твоем?
– У меня была хорошая компания с детства. Со многими я поддерживаю дальше отношения. Лет с трех-четырех, как мы в парке тогда собирались с ребятами, устраивали войнушки с мечами, туда-сюда, – как минимум с пятью-шестью из этих людей я сегодня дальше общаюсь.
– Ну, немало.
– Да, да. В возрасте четырех-пяти лет все было вообще шикарно. До школы – отлично. Днем можно было выйти на улицу, потом я приходил домой, обедал, смотрел мультики. Тогда только «Новый канал» запустился, я помню. Шел «Том и Джерри» в 3 часа дня. Тоже, кстати, три года было, я помню точно. Меня садили за небольшой столик – я смотрел мультики. И знал, что «о, сейчас посмотрю – и пойду опять на улицу. Интересно, кто там будет. Интересно, кто что принесет».
– А что приносили?
– Приносили много всего разного. Приносили и какие-то машинки, и конструкторы, и мечи – и все, что хочешь. Я, правда, особо своего никогда не брал: мне не нравился песок потом на вещах. Все начинают возиться в песочнице туда-сюда… Но это хорошие воспоминания. Вот особенно до школы. Потом: с первого класса…
– Что случилось в школе? Расскажи.
– Школа – это тюрьма.
– Все-таки?
– Да, это тюрьма. Это лишний стресс, переживания. Ну что? Сидишь в здании. Вначале, там, по четыре урока, по шесть было. Это еще терпимо. Но потом все больше и больше. И уже как-то не остается ни времени, ни энергии на другие вещи.
– В школе тебе не нравилось?
– В самой первой – нравилось.
–То есть это зависело от школы?
– Да, да. Вот 38-й лицей… Я же до третьего класса ходил туда. А потом какая история была? У меня же с английским было плохо. У нас учительница была такая себе.
– И ты пошел…
– Не я пошел – меня пошли. Вы меня отправили в британскую школу. За Ростиком. Мне там не нравилось.
– Там были хамы.
– Мы когда туда вошли, между прочим, я почувствовал запах дохлой крысы и про это вам сказал. Вы говорите: «Нет, нет никакого запаха. Это тут новое здание».
– Оказалось…
– Там крыса зарыта. Ну, я не знаю наверняка. Это так, образно. Но затхлое место. До сих пор вспоминаю – мне иногда кошмары снятся оттуда.
– Минуточку. Я вынужден прерваться. Вот сидит Ростик. Ростик, там была зарыта крыса?
Ростислав Гордон (за кадром): Я сижу, ржу.
Дмитрий Гордон – младший: Ты помнишь этот запах?
Ростислав Гордон: Нет, конечно. О чем ты?
Дмитрий Гордон – младший: Ну, я же не могу одним быть. Она же не в носу у меня была.
Ростислав Гордон: Какая крыса?
Дмитрий Гордон – младший: Ну, запах дохлой крысы. Примерно такой же запах был в старой редакции, кстати.
– Скажу тебе по секрету: там тоже была зарыта крыса. Причем та же самая.
– Но там мне нравилось гораздо больше, чем в британской школе. Там, помимо крысы, были хамы, да.
– Дети-хамы были?
– Да. Ну что это такое? Я пошел в третий класс – и я слышу маты отовсюду. В третьем классе. Мне это очень не нравилось. И мне не нравилось то, какое лицемерие там царило. Потому что все такие хорошие были при своих мамах, папах, при учителях… И когда мне в пример ставят какую-то девочку: «Вот посмотри, какая хорошая… Она так хорошо учится…» А потом она на перемене выходит и такие слова говорит… У меня вообще уши заворачивались от такого.
– Ты был культурным мальчиком.
– Мне это не нравилось. Это как-то неправильно было, неестественно. Это было неправильно.
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
– И что, вот пока ты учился в британской школе, тебе все не нравилось?
– Мне жутко не нравились очень многие моменты. Я протестовал, кстати, тогда. Я помню, в четвертом классе особенно. Я приходил домой, и меня мама спрашивала, как прошло, – я говорю: «Плохо». Даже если оно было не очень плохо, я все равно говорил: «Плохо». Потому что в целом оно в итоге складывалось в не очень хорошее ощущение. А потом был такой мистер Риган, как сейчас помню. Это деспот, тиран. Девять классов сделал в… Это был то ли четвертый, то ли пятый класс. Девять классов. Ну я выходил в 5 часов вечера из школы…
– Девять уроков, наверное?
– Девять уроков, да. Ну, класс – я урок имею в виду. Кому это надо? Потом отменили, конечно. Это не очень все прижилось, видимо. Потом они сделали эту форму, которая сильно кололась тоже. Ну просто минус на минусе. Ну зачем?
– Крыса зарыта была, форма кололась, девять уроков…
– Да. Цены кусались.
– Ну, это уже…
– Меня это тогда не заботило, но сейчас я уже…
– Это уже мой вопрос был – про цены.
– Мне жалко просто. Это ж столько всего можно было…
– Они не просто кусались – они больно кусались.
– Да, да. Оно того не стоит. Я поддерживаю сейчас связь ровно с одним человеком оттуда. И то – он из параллельного класса. Мы встретились в Лос-Анджелесе. Кстати, он прилетал недавно. И он мне тогда озвучил цены. И я в шоке был – я не мог поверить. Он говорит: «Не, ну спроси». Так и было.
– То есть от школы хороших воспоминаний у тебя практически не осталось?
– От британской – точно нет. Только несколько.
В детстве я хотел стать режиссером кино
– Кем в детстве ты хотел стать?
– Режиссером.
– Театральным, кино?
– Кино.
– Почему?
– Снимался твой клип «С Новым годом»…
– Да. В котором ты принимал участие.
– Да. И я увидел женщину, которая всеми командовала…
– В белом свитере ты был, как сейчас помню.
– Возможно, да. Там была женщина, которая всеми командовала. Я спросил, кто это. Мне говорят: «Режиссер».
– То есть тебе понравилась женщина.
– Мне понравилось то, что она делала. Я не знаю почему. Потом как-то у меня отложилось, что «О, режиссер – это здорово». И дальше уже какие-то фильмы, которые я любил смотреть в детстве, я начал пересматривать много раз, думать: «Хорошо. Как режиссер, интересно, делал это?» Я смотрел какие-то интервью с режиссерами…
– Хороший клип был. Я сейчас вспоминаю… Кроме детей моих…
– Все было хорошо.
– Нет. Там же снимались какие люди интересные – в этом клипе… Роман Виктюк, Ада Роговцева. Таисия Повалий и Игорь Лихута, Леонид Буряк, Александр Волков – баскетболист, – Ян Табачник, Татьяна Недельская, Михаил Светин, Павел Глоба… Боже, всех ли я вспомнил? Какие люди играли в клипе… И продюсером был Сергей Перман. Я помню как сейчас… Он теперь большой человек в Офисе президента, а тогда он был продюсером нашим. И когда я тебя с ним знакомил, я сказал: «Это Дима, а это продюсер Сергей Перман». Ты сказал: «Ммм, продюсер Сергей Перман…» Да?
– Ты помнишь это? Звучало солидно.
– Да. Хорошо. Режиссером. Кем потом ты хотел стать, когда подрос чуть-чуть?
– Я довольно долго хотел быть режиссером. Вот с семи лет и до того момента… До 14, когда я начал музыку писать. Я тогда начал немножко взвешивать: «Может быть, кинокомпозитором». Потому что это довольно близко было все равно, но мне казалось, что раз у меня музыка идет, нужно же этим пользоваться. А с режиссурой я себя не попробовал еще на тот момент. Поэтому думал, что я вначале пойду по пути музыки, а возможно, потом я буду режиссером. Потом я насмотрелся на то, как режиссерам трудно: уже года через два-три – и понял, что режиссером быть больше не хочу.
В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
– Переходим к музыке. С какого времени ты начал брать уроки игры на фортепиано? Сколько тебе было лет?
– Четыре.
– С четырех лет.
– Да.
– Я должен перед тобой повиниться. Я думал: «Ну что, там… Заставлять ребенка играть на фортепиано? Блажь какая-то. Ну все равно ребенок дальше будет не связан с этим. Зачем мальчику играть на фортепиано?» Я не верил во всю эту затею.
– Ну, как и я.
– Нас двое уже не верило.
– Да.
– И потом вдруг тебе стало нравиться. Почему? И с какого момента?
– С 14 лет, когда я сел – и у меня пошло что-то свое. Тогда понравилось впервые.
– То есть ты написал первую музыку?
– Да.
– Тебе понравилось писать музыку?
– Да, очень.
– Как она рождается вообще у тебя? Как музыка появляется? Вот мне композиторы говорили разные, что есть так называемый «жопный» метод: когда ты сидишь и высиживаешь ее – и есть метод – как озарение: вдруг приходит – и все: только успевай ноты записывать. У тебя как происходит?
– Каждый раз по-разному. Иногда я могу просто шутить, делать пародию на какую-то… «О, якобы в этом стиле давай сейчас я придумаю за пару секунд». Оно выходит вот просто так. Иногда высиживаю. Да, иногда я долго высиживаю. Я могу годами высиживать одну тему.
– Годами?
– Да. Я делаю запись. Как только что-то начинает появляться, я записываю. И периодически я пронизываю эти записи, слушаю через несколько лет и понимаю, что вроде все хорошо – можно работать с этой темой. Или же «вот в этом моменте что-то слабовато» или «куда-то меня повело не туда», или «на что-то похоже». Я доделываю – и потом уже продолжаю работать.
– Когда в 14 лет ты написал первую свою музыку, что ты почувствовал?
– Свободу. Потому что ее не было, когда я играл музыку. Можно было создать такой мини-мир, в котором действуют твои правила, и при этом поведать какую-то историю через этот мини-мир. Вот это мне понравилось. Это близко было к режиссуре. Это то, наверное, что я хотел бы делать, если бы стал режиссером. Но я понял, что в музыке это сделать гораздо проще, потому что мне для этого не нужен оператор или актеры. И бюджет-то особо не нужен. Я могу просто сесть за инструмент – и просто из ничего сделать что-то. Вот это мне понравилось.
– Когда в 14 лет ты написал первую музыку, ты ощутил то, что хочешь стать композитором, или нет?
– Я думал вообще, что я напишу еще несколько таких пьес – и буду их слушать. Сам для себя. Потом я думал: «Может быть, я когда-нибудь что-нибудь сниму и смогу использовать эту музыку там». И потом потихоньку я начал идти к тому, что я могу это делать и мне нравится это делать, и я могу сделать это основным занятием.
– А сколько тебе было лет, когда ты написал эту музыку, которую я считаю блестящей, на мой взгляд? Вот это: там-та-та-там-та-та-тара-та-там-там… Извини, если в нотах запутался.
– 15 было. Ничего, довольно близко, кстати.
– То есть все равно запутался?
– Не, нормально.
– Спасибо. Довольно близко. 15 лет?
– Да.
– В 15 лет ты ее написал. Легко или высиживал?
– Когда как. Тогда, когда писал музыку в то время, я нащупывал. У меня все просто из-под пальцев шло. Причем самую первую когда я писал… Я про это часто рассказываю, когда меня спрашивают. Я играл этюд Черни, который мне очень нравился, но пальцы меня не слушали в тот день. Я сделал несколько ошибок, и мне показалось, что оно интересно звучит. И я так начал немножко отходить от Черни – и потом получилась первая пьеса таким образом.
– От кого ты отошел тут?
– Тут я скорее вдохновлялся вальсом Хачатуряна из фильма «Маскарад». Просто по энергетике скорее – не в нотном, не в гармоническом плане. Но я точно так же нащупывал. Я вообще делал то, что мне удобно играть было тогда. У меня не было никогда особо техники хорошей. И я не чувствовал себя свободно за роялем. Я обычно не импровизировал никогда до этого. Поэтому то, что было легко сыграть, и то, что было легко запомнить, я делал. Мне нравилось, там, допустим, грубо говоря, в двух руках дублировать аккорды с октавой. Дубль. И я что-то начал с этим делать – что-то пошло. Палец туда, палец сюда, потом уже голова подключается: «О, хорошо. Можно продолжить здесь таким образом, тут – таким образом». И я помню, что я блоково ее делал. То есть у меня какой-то блок появился довольно легко, сразу, потом прошло какое-то время, и я думал, как продолжить, как связать. Самое сложное – это связки. Придумать – это каждый дурак может: там, несколько нот. Вопрос только в том, как развить это и как довести до логического завершения, чтобы не стало скучно во время того, как это все происходит. Но тут были проблемы.
– А кто из композиторов вообще тебе нравится? Ты говорил сейчас про Хачатуряна, про Черни…
– Да. Они мне все нравятся. Но у меня любимых три композитора классических.
– Кто?
– Это Бетховен, это Малер и это Шостакович.
– Шостакович?
– Да. И из мира кино – это Джон Уильямс, который у меня в голове с трех-четырех лет и играет. Потому что он в тот момент написал к такому большому количеству фильмов, что…
– Засел – и играет.
– Да, да. И до сих пор.
– Так. Кто еще?
– Эннио Морриконе, если по фильмам тоже идти. Ну, это самые любимые. А так – какие-то моменты я еще могу выбирать у каких-то конкретных композиторов, но каждый год это разное.
Фото: Dmytro Gordon / Facebook
– В 15 лет ты написал это произведение. И его показали у Савика Шустера.
– Вначале на «Мелодії двох сердець».
– Нет. Вначале у Савика Шустера.
– Нет. «Мелодія двох сердець» была сначала. Савик Шустер – это было как раз преддверие Нового года уже.
– «Мелодія двох сердець» – это Виталий и Светлана Билоножко.
– Да.
– И показал Савик Шустер.
– Потом Савик Шустер, да.
– Это было очень интересно. Там весь политический бомонд присутствовал, вся элита во главе с [Петром] Порошенко.
– Да, да, да.
– И ты играл тогда. Я сидел у телевизора. Это был прямой эфир, была прямая трансляция. У меня колотилось сердце, я помню, хотел, чтобы ты не сбился, чтобы не подвел Алесю [Бацман], которая устроила тебе это. Потому что я думал: «Если ты собьешься – еще полбеды. Но подведешь Алесю – неудобно». Она так горячо отстаивала перед Савиком Шустером, что ты молодое, юное дарование, и ты должен сыграть… Ты боялся вообще?
– Я боялся на «Мелодії двох сердець». Это было впервые.
– Ну да, там зал – 3600 человек сидело, дворец «Украина».
– Да, да. И у меня всегда были проблемы с таким исполнением – вживую. Я всегда переживаю. Причем оно так… Оно интересно идет, потому что я переживаю – и у меня руки немножко подтрушиваются. Потом я думаю: «Сейчас все увидят, что у меня руки трясутся, подумают, что алкоголик или наркоман». И еще больше трясутся. Потом смотрю – уже и нога трясется на педали. И оно все так…
– «Потом голова трясется, а потом сам трясусь». Да?
– Потом закончилось тем, что когда на «Мелодії двох сердець» я играл эту пьесу, мне в какой-то момент показалось, что скучная секция. И сам себе сказал: «Зачем ты ее написал вообще? Пропусти. Это никому не понравится».
– И ты пропустил?
– Я пропустил, да. Я не знаю, насколько это заметно было. Ну, те, кто слышал, – те заметили. Те, кто слушал раньше эту пьесу. Для тех, кто не слушал, наверное, оно прошло нормально. Но на Шустере на удивление хорошо получилось. Я помню этот день. У меня в школе тогда был концерт тоже. Это было, опять же таки, перед Новым годом. И у нас кто-то должен был от класса пойти на этот утренник и там что-то сделать. У нас почти не было музыкантов. Я и еще два парня объединились в группу. Меня еще и на вокал посадили. И я тогда там залажал на вокале. И когда на Шустера поехал, я уже думаю: «Ну, там уже все: как бы лажа была». Как-то я расслабился уже после этого, адреналин немножко прошел. И спать хотелось, и нервов почти не было. Поэтому сыграл ровно.
– То есть ты собой остался доволен?
– Да, вполне.
Впервые идею писать музыку мне подкинул Андрей Миколайчук
– Ну вот уже у тебя было два таких выступления. Я хочу просто сказать о людях, которые, на мой взгляд, сыграли роль в твоей творческой биографии. Знаешь, когда все хвалили тебя, я думаю, что… Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы не говорили «вот, это его продвинули, это потому, что он сын Гордона, это по блату» и так далее.
И мы с тобой поехали к Игорю Покладу. Игорь Дмитриевич Поклад – выдающийся украинский композитор, основоположник украинской эстрады и вообще человек очень высокой требовательности. Он сначала так смотрел: «Ну, еще один пришел…» Мы к нему приехали домой. Но когда ты начал играть то, что написал сам, я видел, как он преображался. И я понял уже, что ему это нравится. И он сказал такие о тебе слова, после которых я понял, что «это, наверное, оно». Потом был Роман Григорьевич Виктюк, который умер буквально недавно – наш друг, который тебя послушал и порекомендовал тебя здесь… Кому? Расскажи.
– Он познакомил с Ниной Ивановной Королюк, которая, в свою очередь, познакомила с [Евгением] Станковичем.
– Это выдающийся композитор.
– Станкович и Поклад – да, это самые крупные композиторы на сегодняшний день в Украине. Одни из. Наравне с [Валентином] Сильвестровым, которому она тоже показывала мою музыку. Сильвестров, в принципе, вначале говорил, что он готов со мной заниматься, но потом немножко отстранился.
– Разные стили.
– Да. И я тогда по теории ничего не знал. Я же все делал…
– Сильвестров – мирового класса композитор. Да?
– Да, конечно. Конечно.
– И Станкович?
– И Станкович, да.
– Что Станкович сказал? Ему понравилось?
– Да, Станковичу понравилось. И я ему даже лучше тогда сыграл, чем Покладу. И более удачный набор композиций тоже. Я вот не знаю, на месте Поклада что бы я тогда сказал, если бы я услышал то, что я играл на тот момент. Мне казалось на тот момент, что это сильно, а сейчас я понимаю… Но как-то он что-то рассмотрел.
– Ну это нормально.
– Как-то он рассмотрел тогда. Ему спасибо большое: Покладу. Потому что он ускорил процесс моего экстерна. Я же тогда закончил на класс раньше.
– Школу.
– Да. Если бы он не сказал свое слово, этого бы не было. Так что спасибо ему большое. Спасибо тебе, что мы тогда это сделали.
– Он тебе дал крылья своим одобрением, я думаю.
– Да, да.
– Смотри. У тебя был вопрос: ты хотел идти учиться на композитора или нет?
– Да.
– Хотел?
– Да.
– И тогда стоял вопрос, что это будет: киевская консерватория или, может… Тогда же еще не было войны. Может, московская консерватория – и так далее.
– Да.
– Ну и я помню знаковый, мне кажется, для тебя вечер: в Киеве юбилей газеты «Бульвар Гордона», съехались выдающиеся люди отовсюду, в зале было больше звезд, чем на сцене. И на следующий день мы в узком кругу продолжали уже догуливать в ресторане. Был банкет в тот день, когда был праздник во дворце «Украина», и потом, на следующий день, по традиции, всегда после таких праздников собирался узкий круг такой… Здесь, между прочим: в Premier Palace, на восьмом этаже. Там присутствовали, я помню, Александр Пороховщиков – помнишь? – покойный: актер прекрасный, – Валентина Талызина, Барбара Брыльска, по-моему. В общем, много таких людей. И Виталий Коротич, Роман Виктюк… Цвет и эстрады, и поэзии. Юрий Рыбчинский был, Валерий Леонтьев, мне кажется, и Эдуард Ханок был. Много людей было интересных. И в конце ты начал играть. Помнишь?
– По-моему, Андрей Миколайчук тогда меня подбил к этому. Тоже важный момент, кстати.
– Да.
– Я потом вернусь к этому.
– Давай ему скажем спасибо. Вообще надо говорить всем спасибо. Правда?
– Вообще Андрей Миколайчук впервые подкинул мне идею писать музыку. Потому что я играл у тебя на дне рождения: кстати, тоже тут – сонату Бетховена первую в 12 лет. И Андрей Миколайчук мне в конце сказал: «Надумаешь писать музыку – пиши». Или «звони». Что-то такое. И потом, через два года, оно отдалось. Потому что я подумал: «А че?»
– Раз сам Андрей Миколайчук сказал писать музыку.
– Ну да. «Это же никуда не пойдет, – у меня в мыслях было, – для себя сделаю сейчас. Почему бы и нет? Надо попробовать, что это».
Уолтер Афанасьефф мне сказал: «Приходи сюда хоть каждый день, пока ты тут, играй. Я буду кайфовать»
– И вот дальше… Что такое судьба? Вот ты сыграл тогда, и Алеся мне говорит: «Диме же надо учиться за рубежом. Здесь не будет того класса». И тут же ее идея… Уолтер Афанасьефф, который композитор, обладатель двух «Грэмми» и «Оскара» – правильно я говорю, да? – продюсер – кого? – Мєрайи Кэри… Кого еще?
– Уитни Хьюстон, Селин Дион.
– Ну ничего себе фамилии…
– Даже Майкла Джексона однажды.
– Ничего себе фамилии… Да? И они пели его песни.
– Да.
– То есть человек хо-хо. И Алеся говорит: «Надо договариваться с ним и везти Диму к нему на прослушивание».
– Ну, я не помню детали. Я не знаю, знала ли она его на тот момент. Она знала Артема Боделяна.
– Да.
– Который знал Уолтера. Я не знаю, как так вышло…
Фото: Walter Afanasieff / Facebook
– Конечно. Через Артема вышла она на Уолтера, и вы с ней поехали к Уолтеру.
– Да, в 2011 году.
– В 2011 году. Тебе было тогда 16 лет. Поехали к Уолтеру Афанасьеффу в славный город Лос-Анджелес.
– Да.
– Вот вы приехали к нему… Расскажи, как это было.
– Мы приехали. Он был немножко рассеянный в тот день.
– У музыкантов это бывает.
– Бывает, да. У него, по-моему, кто-то был в гостях еще, если я не ошибаюсь. И он как-то так: пару слов туда, пару слов сюда. Я помню, что я сел за рояль, я начал играть, и в тот момент он немножко сконцентрировался. Он закрыл дверь в комнату с роялем, чтобы не было никаких шумов на фоне. Он сел, меня терпеливо выслушал до конца. Потом сказал: «Давай еще, если что-то есть». И я так где-то три или четыре композиции сыграл.
– Своих?
– Да, все свои. И он очень тепло тоже отозвался о музыке. Честно: деталей не помню уже. Это было вечером – я хотел спать. Это же после перелета 11-часового. Но я помню, что он очень положительно отозвался. Он еще сказал: «Приходи сюда хоть каждый день, пока ты тут, играй. Я буду кайфовать». Вот как-то так.
– Вот красиво все это. Да? Я – знаешь, что хочу сказать? Вот спасибо просто всем хочу сказать. Потому что люди, не ища выгоды, помогали тебе на разных этапах. Понимаешь? Потому что видели талант.
– Да.
– Это крайне важно. И вот наша программа – она еще и тем хороша, что я просто хочу сказать всем, кто видит таланты попутно: «Помогайте им. Вам зачтется». Правда?
– Да, это важно.
Два украинских профессора сказали мне: «Вам пока не с чем поступать в консерваторию»
– Вот Уолтер Афанасьефф тебя посмотрел и сказал, что ты должен поступать в Беркли. Да?
– Я предисловие еще сделаю. Немножко длинное. Там важный был момент просто пропущен. До того, как я тогда сыграл и Алеся сказала, что нужно за рубеж, был эпизод, когда я хотел в консерваторию, потому что мы тогда еще думали…
– Киевскую?
– Да. И первый раз если я пришел с Ниной Ивановной к Станковичу… Она, кстати, не называла фамилию специально, чтобы была объективная оценка полностью. Станкович очень положительно отозвался. Сказал, что «приходите к нам». Ему действительно понравилось. И до сих пор с ним общаемся. Я его периодически набираю, прошу о чем-то: рекомендация для визы или еще что-нибудь. Он очень так: тепло…
Но потом мы пришли, на второй раз, уже более конкретно говорить о поступлении и что мне для этого нужно. Нас приняли тогда два профессора консерватории, которые – я очень хорошо помню – вот так вот вдвоем сели в такую позу сразу же… Вот так вот это было. То есть уже дискомфортно. И я сыграл то, что я играл Станковичу. Причем мне понравилось, как я сыграл. Я от них услышал два замечания. Первое замечание: «Молодой человек, если вы будете так громко играть, рояль скоро расстроится». Второе замечание: «А чего вы скачете левой рукой? Вы обращения не учили разве? У вас не было класса по гармонии?» Ну и потом начались вопросы: «Умеете ли вы писать гармонический диктант?» – на слух, знание теории, туда-сюда… И закончился разговор: «Ну, вам пока не с чем поступать в консерваторию». Дали список. «Вот, занимайся по этому всему. Когда будешь готов, приходи еще раз. Будешь сдавать экзамены», – и так далее.
– С этим ты поехал к обладателю двух «Грэмми» и «Оскара»…
– Ну, с этим я вначале поехал домой. Я немножко подрасстроился. Потому что я не понимал, что от меня хотят. Мне казалось просто после оценки Поклада и Станковича… Как минимум я ожидал какое-то слово поддержки: что «вот ничего, просто нужно подучить, но вот, значит, по композиции хотя бы хорошо». Но я этого не услышал. Я понимаю теперь почему, тоже.
– Почему?
– Ну, это было слишком просто для них. Профессора консерватории очень разбалованы в плане музыкальных предпочтений. И они музыку слушают немножко иначе. Не каждый из них является композитором.
– Да?
– Даже тот, кто пишет музыку, не каждый раз является действительно композитором. Многие музыковеды, основываясь на том, что уже было до них, выводят свою конструированную композицию, которая побеждает на конкурсах, которую смотрят такие же музыковеды и говорят: «О, вот здесь вы… Да, этот инструмент так еще нигде не играл. Разве что у Стравинского в «Жар-птице». Я понял, что вы хотели сказать. Это очень концептуально…» Похвалят вот так вот. И покритикуют еще больше, чем похвалят. Вот это консерватория.
– В общем, ты понял, что в киевской консерватории тебе не учиться. А тут Уолтер Афанасьефф говорит, что с таким талантом надо поступать в Беркли.
– Да. И перед этим еще Алеся сказала, что надо на Запад. Этот вопрос рассматривался. Тогда она тоже свое мнение сказала по этому поводу. И мы поехали смотреть университеты Лос-Анджелеса, помимо того, что мы встречались с Уолтером.
– Вы решили посмотреть, что есть.
– Мы три посмотрели.
– Лос-Анджелес: музыкальный университет. Да?
– Сейчас скажу. Loyola Marymount University первый был. Там очень хороший был кампус: ну, территория университета. Прямо как вот в фильмах показывают: зеленая трава между зданиями…
– Трава понравилась?
– Все понравилось. Люди такие приветливые… Потом нам показывает мужчина музыкальный зал: там все так красиво… Потом закрывает. Он как сторож там. И говорит: «Знаете, я тут тоже учился. Я был оперный певец». И Алеся потом сказала мне на ухо: «Нет, не надо сюда идти».
– Такое нам не надо.
– Да. Потом был ЮСи Элли.
– Это какой город?
– Все в Лос-Анджелесе. Или в окрестностях. И потом USC (University of Southern California. – «ГОРДОН») это университет…
– Тоже Лос-Анджелес?
– Тоже в Лос-Анджелесе. Это очень известное заведение. Там учился Спилберг и много кто другой. По музыкальной части тоже очень много выпускников. И если бы Уолтер тогда не сказал, что нужно в Беркли… Я просто спросил у него: я говорю: «Мне очень нравится USC». Я почувствовал, что я мог бы там учиться. Это как раз вот идеальный вариант был. Он говорит: USC – это больше для тех, кто хорошо поет. Тех, кто идет по такому, более медийному, пути». Говорит: «Если тебе нужна база и хорошая музыкальная школа, иди в Беркли».
– И вы поехали в Беркли.
– К бабушке с дедушкой.
– Да. Поехали в Бостон.
– Да.
– В Бостоне пошли на экскурсию с Алесей в Беркли. Посмотрели…
– Посмотрели. Я не скажу, что мне прямо класс как понравилось. USC нравился больше визуально. Но я понимал, что раз Уолтер сказал туда… И я посмотрел тоже список выпускников: кто там был. Оттуда выпустился Говард Шор, композитор музыки к «Властелин колец». Я очень любил этот фильм в детстве и эту музыку. И до сих пор. И я понял: «Хорошо, если база – туда». И я решил, что это правильно.
– Вам показали инструменты XVII века, которыми играют, на которых играют студенты.
– Да, да.
– Вам показали шикарный зал Беркли, один из лучших в Соединенных Штатах. Да?
– Да, да. Зал хороший.
– Показали еще много чего. И, в общем, тебе показалось, что Беркли – это оно. Да? Тем более, что Уолтер посоветовал.
– Оно чувствовалось правильным тем, что не было настолько расслабленной этой атмосферы, как в Калифорнии. Мне кажется, в Калифорнии трудно учиться было бы.
– Да.
– Бостон все-таки немножко такой, затянутый, был.
– Ну, студенческий город.
– Студенческий, да. Но погода была пасмурная – на солнышке не полежишь. Травы нет – это город. Ездят машины. И я понимал, что мне нужно абстрагироваться от всего и просто, действительно, нагнать базу.
– То есть было понятно, что это лучший в мире музыкальный университет: композиторский особенно факультет? Скажи.
– Это трудно сказать. По некоторым версиям – да, он на сегодняшний день лучший.
– Он считается лучшим в мире.
– Да. Но кто-то говорит, Juilliard в Нью-Йорке лучше. Кто-то говорит, что еще какой-то. Но многие признают, что Беркли – это оно.
– Ну, говорят композиторы, что Беркли – номер один в мире.
– Те, которые туда ходили.
– Нет, ну, слушай, это такое, знаешь, общепринятое высказывание, определение. И дальше чудеса происходят. Уолтер говорит, что он хочет лично тебя туда привести и представить как своего ученика. Я правильно говорю?
– Я не знаю, лично ли он это сказал или Алеся ему дала такую идею.
– Нет, нет, он это сказал Алесе, что ты ему так понравился, что он хочет лично с тобой поехать в Беркли на экзамены.
– Мне кажется, это говорила его воспитанность, но потом уже не отвертеться было.
– Ну, ты скромный человек, и мне эта скромность нравится. Тем не менее он садится в самолет…
– Это позже уже было.
– Позже, конечно.
– Это мы уже вернулись. Потом я поехал поступать в августе 2011-го.
– И он прилетел туда.
– Да, он прилетел туда. Мы там встретились…
– Вот фантастика тоже: такой человек садится в самолет из Лос-Анджелеса, летит в Бостон, чтобы тебя представить.
– Да.
– А ты ощущал вообще, насколько это здорово и насколько это похоже на сказку?
– Ну, у меня это еще со Станковича началось. Поэтому…
– Сказка началась со Станковича.
– Да. И с того, что я школу окончил преждевременно. Оканчивал. Еще не окончил на тот момент, но…
– Экзамены сложные были в Беркли?
– Я к ним готовился полгода. Мы готовились с двумя педагогами. Кстати, слова благодарности тоже: Татьяна Александровна Линкова – мой педагог по фортепиано с шести лет. Без нее вообще ничего бы не было, потому что когда я в 12 лет позвонил и сказал: «Я не хочу уже заниматься музыкой», она меня убедила остаться. И вообще ее терпение не имеет границ. Потому что дома я много раз вообще не занимался, приходил на урок неподготовленным, и как-то ей хватало терпения продолжать со мной работу.
– Что-то видела, видно.
– Да, явно. Второй педагог – Елена Николаевна Галузевская – по теории музыки, по сольфеджио, гармонии и прочему. Вот с ней мы как раз за год до Беркли примерно познакомились. Она меня вытянула полностью по теории. Я теорию никогда не учил. И мы с ними двумя готовились к этим экзаменам. Надо было сыграть. Причем композиторы могли играть две пьесы.
– Одну свою, одну чужую.
– Да. И я готовил тогда играть Шопена: прелюдию: по-моему, 24-й номер. И готовил играть свое произведение. Там нужно было, чтобы не больше трех минут, по-моему. Да, шесть вместе. Плюс к этому, нужно было импровизировать, чего я делать не умел. Я отказался импровизировать на экзамене: сказал, что «извините, я не джазовый музыкант». Ну, они с пониманием отнеслись.
– Ты еще характер проявил.
– Нет, я не хотел позориться. Я бы ничего не сыграл путного. Зачем? На слух был экзамен. Это мы готовили с Еленой Николаевной. Они на самом деле не такой трудный экзамен делали на слух. Я думал, там будет сейчас…
– А Уолтера пропустили на экзамены?
– На первый – нет. Там две части было: экзамен и потом интервью. Уолтер пошел со мной на интервью уже. На экзамене он спросил: «Могу ли я пойти?»
– Они сказали: «Нет»?
– Они сказали: «Нет».
– Но когда он с тобой пошел на интервью, сыграло какую-то роль в твоем поступлении то, что такой именитый человек: еще раз: два «Грэмми» и «Оскар», и продюсер, извини, Мэрайи Кэри, Уитни Хьюстон… Кто там еще?
– Ой, много кто. Я не знаю даже, с кого начать.
– Майкл Джексон – ты говоришь, он исполнял его песни.
– Ну, Леону Льюис давай еще возьмем, Кенни Джи. Куча людей. Андреа Бочелли.
– Да?
– Да, конечно. Джордж Гробан – ну длинный список.
– И Барбра Стрейзанд.
– Да, Барбра Стрейзанд.
Фото: Dmytro Gordon / Facebook
– Да, Дима… Ну вот то, что он пришел с тобой и сказал, что ты его ученик, и он просит, чтобы тебя приняли, сыграло роль?
– Я думаю, да. Беркли очень коммерчески нацелен. Поэтому… С другой стороны, там никогда не знаешь, что именно сыграло роль. Мне кажется, сыграли роль две вещи. Первое – это то, что во время экзамена, после того, как я сыграл две композиции, – меня спросил экзаменатор и почему-то обратился ко мне «Дмитрий Дмитриевич». Я не знаю, откуда у него такая информация была. Шостакович был Дмитрий Дмитриевич. Может быть, оттуда. Может, он даже не знал, что я действительно Дмитриевич, а просто решил приколоться. Он сказал «Дмитрий Дмитриевич».
– Американец?
– Да, американец.
– Ничего себе…
– Он спросил, могу ли… Как он?.. Спросил, играю ли я Баха, почему-то. А я как раз играл Баха благодаря Татьяне Александровне. Я сыграл начало фуги ре-минор. Он послушал две минуты – потом говорит: «Спасибо большое, достаточно». И он как бы принимал экзамен, а женщина еще сидела, записывала все. Мне кажется, это был поворотный момент.
– То есть тебе помог Бах.
– Да, да, возможно. Бог.
– Надо его поблагодарить.
– Бог и Бах, да.
– Надо его поблагодарить. Хорошо, ты поступил в Беркли…
– Сейчас. Интервью – еще интересный момент.
– А, давай.
– Там студенты брали интервью: выпускники. И там был такой темнокожий парень: очень веселый, на расслабоне. Стандартные вопросы: «Почему ты хочешь учиться у нас?» Я помню, это важный вопрос. Нельзя отвечать «потому что это Беркли, потому что я, значит…»
– Нельзя?
– Нельзя. Потому что все так отвечают. Надо было найти другую какую-то фишку. Я не помню уже, что именно я ответил, но ответы были вполне себе. Уолтер играл роль как бы моего переводчика во время этого всего тоже.
– Но все понимали, кто это? Кто переводит?
– Ну, в конце: когда интервью закончилось – он этого паренька постучал по спине и говорит: «Ну, ты знаешь, вообще я Уолтер Афанасьефф, – туда-сюда, туда-сюда, – так что ты, наверное, лизал бы мне жопу больше, если бы ты знал это в начале».
– Так сказал?
– Да. В шутку. Они посмеялись просто. Я не знаю, сделал ли этот студент какие-то пометки потом, то есть сыграло ли это, действительно, роль или нет. Может быть. Уже не узнать. Но это было не лишним: то, что он тогда присутствовал. Как минимум он мне прибавил уверенности. И кто-то, возможно, в лицо его и знал, потому что он там раньше читал несколько раз лекции, если не ошибаюсь, или мастер-класс – что-то такое.
– Хорошо. Ты поступил – ты ощутил счастье от того, что ты студент Беркли?
– И да, и нет. Да – в том плане, что я понял, что наконец-то я занимаюсь тем, что мне пригодится, и не теряю время непонятно где в компании непонятно кого. Ну, 30 человек в классе сидят, слушают информатику, и учителя не слышно, потому что все перекрикивают. И я сижу и жду момента, когда я уже поеду домой и что-то, может быть, полезное сделаю. Поэтому в этом плане – да.
С другой стороны, я понимал: это опять за парту садиться. Так оно и было. А в-третьих, это далеко от дома. Это трудно было все-таки вначале. Нужно было привыкать к тому, что другой язык, другая культура. Надо было самому стирать вещи, готовить, если нужно готовить. Понимать, где покушать, что покушать.
– Я помню, как мы с Алесей прилетели тогда посмотреть, как ты устроился, и бабушка с дедушкой пришли. Помнишь?
– Да.
– Я думал: «О, Беркли, американское общежитие – это, наверное, крутизна невообразимая». А когда я увидел это общежитие, я понял, что оно не сильно отличается от общежитий Киевского строительного института времен моей юности.
– Ну не знаю. Я не был в Киевском строительном.
– Ростик с нами был. Нет, Ростика с нами не было?
– Нет, Ростика не было. USC в этом плане, кстати, гораздо лучше было бы. Поэтому оно мне зрительно нравилось больше. Да, Беркли – старое здание…
– Общежитие не фонтан, да.
– Это ты одно из общежитий видел – в котором я жил. У нас их было три на тот момент.
– Остальные еще хуже?
– Да. Одно из которых раньше было психлечебницей. Они его купили, перестроили. Там еще мифы ходили, что призраки якобы обитают.
– И вселяются в некоторых композиторов. Да?
– Возможно. Возможно.
– Тем не менее вот мы зашли в столовую вашу – у вас там шведский стол был.
– Да.
– Вот тут, конечно, бомба, я тебе скажу. Нас пустили покушать еще. Помнишь?
– Да, да. Ну у меня были пассы для гостей.
– Да. Ну мы пришли покушали, еще и мороженое. Так вкусно все… Берешь что хочешь. Фантастика для студентов. Это красиво было.
– Настолько вкусно было действительно?
– Да, вкусно было реально.
– Не знаю. Оно так иногда очень даже неплохой выбор, а иногда такой себе.
– Ты просто привык. Мы с голодухи были, поэтому нам пошло нормально.
– Может быть. Они под конец жлобиться начали. Сейчас расскажу. Когда вы приезжали, у нас еще были подносы. Можно было взять поднос и пойти набрать себе. Они потом поняли, что люди часто берут и недоедают. Убрали подносы. Сказали, это травматично, или какую-то фигню придумали.
– И?
– Ну, надо было потом в очереди простаивать каждый раз. То есть идешь за одним блюдом – стоишь в очереди из 15–20 человек. Уже как бы опаздываешь, и второе блюдо не успеваешь подойти взять.
– Ты возмутился?
– Мне это не нравилось, да.
– Вывел всех на протест. Нет?
– Не выводил. Я просто ушел из общежития и потом ел сам.
Барбра Стрейзанд в общении очень скромная, воспитанная и незаносчивая
– Вот ты выучился в Беркли, стал композитором, поехал в Лос-Анджелес: туда, где живет Уолтер Афанасьефф…
– Да.
– Мы к тебе опять приехали с Алесей тогда в Лос-Анджелес уже, выпили с Уолтером много водки.
– В «Трактире».
– Как сейчас помню. Ресторан «Трактир», да.
– Это не настоящий трактир, но…
– Веселый человек Уолтер, конечно. Лос-Анджелес – столица киноиндустрии мировой.
– Да.
– Огромное количество звезд. И вот Уолтер начал тебя привлекать – уже дипломированного композитора Беркли – к работе с выдающимися мировыми звездами.
– Да.
– Вот давай перечислим звезд мировых, с которыми ты уже работал как композитор. Вот Барбра Стрейзанд. Так?
– Барбра Стрейзанд, да. Но я должен сделать сноску: я не писал для нее музыку – я делал различные задачи. Запись – да, аранжировка где-то – да. Но пока что…
– Запись и аранжировка. Ну ты…
– Там очередь просто из стольких композиторов…
– Но ты помогал Уолтеру, который для нее делал альбом.
– Да.
– И сейчас делает второй альбом. И ты опять работаешь с Барброй Стрейзанд.
– Да.
– Скажи: как она вообще вблизи?
– Очень хорошо. Ей же 80 лет уже. Очень хорошо выглядит.
– Как общаться с ней? Я хочу сказать нашим зрителям, что я сейчас беру интервью у человека, который вот запросто общается с Барброй Стрейзанд. А скажи: как она в общении?
– Ну, не запросто, а при обстоятельствах. Я не могу ей позвонить среди ночи и сказать: «Мне грустно».
– Ну, потому что тебе просто не грустно. Тем не менее как она в общении?
– Очень скромная. Она мне показалась очень скромной, очень воспитанной. Она спросила, когда Уолтер нас впервые познакомил, это было во время записи оркестра… Ну, очень незаносчива.
– Что спросила?
– Спросила, откуда я. Я сказал: «Из Украины». Она сказала: «О, я знаю одно слово: «До свидания». Но это она не хотела от меня отделаться – это просто было…
– На этом вы и закончили. Да?
– Я заметил важный момент. Мы записывали в студии имени Барбры Стрейзанд в Sony Music.
– Ее личной?
– Ее личная студия, да. У нее там отдельное парковочное место, я помню. И все так обходят машину и говорят: «Это место Барбры Стрейзанд. Осторожно». Люди, когда долгий день записи, едят, оставляют какие-то пластиковые контейнеры, коробки… Мне запомнилось, как под конец она лично ходила, собирала эти контейнеры и говорит: «Это же моя студия. Надо убрать все». И лично выкидывала.
– Прикалывалась?
– Ну как, полуприколом. Но она не возмущалась – она просто прошлась вот так, контейнер отсюда, отсюда – в мусорное ведро.
– Видно, что это звезда мирового класса, по ней?
– Да.
– Она несет себя как звезда?
– У нее аура есть.
– Есть?
– Да. Но она не ведет себя как звезды украинского или российского шоу-бизнеса. Она не заносчива.
– Она хорошо поет еще?
– Очень. С первого тэйка.
– Вот интересно. Я видел, как записываются звезды украинской и российской эстрады. Мало кто записывается с первого раза.
– Да.
– Я тебе скажу, из всех, кого я видел записи… Я же и пел со многими, если можно назвать это словом «пел»…
– Пел, пел.
– Спасибо на добром слове. «Этот стон у нас песней зовется». Я видел записи многих. Вот я тебе скажу так: Иосиф Кобзон – с первого раза. Александр Розенбаум – с первого раза, Тамара Гвердцители – с первого раза. Вот встал, записал – и Владимир Бебешко говорит: «Спасибо, больше не надо. Лучше уже не будет».
– Да.
– Стрейзанд с первого раза записывается?
– Как правило, да.
– Сразу?
– Да.
– Раз! – и ушла – да?
– Да. Причем на протяжении многих лет.
– Всегда так.
– Ну вообще мурашки по коже, когда слушаешь, как поет Барбра Стрейзанд: и даже в записи.
– Мурашки по коже?
– Да. Я расскажу сейчас историю. В 2002 году Уолтер написал для нее песню, которую она тоже спела с первого раза тогда. Но сейчас я к этому вернусь еще. Там очень интересная предыстория. Он написал ее вместе с поэтом, который на тот момент переживал трудное время: его жена, с которой они ходили к психотерапевту или к психологу семейному – что-то такое, – она с этим психологом или психотерапевтом начала встречаться потом и, по сути, подала на развод. Развод в Америке – это очень плохая штука. Особенно для мужчины. И Уолтеру нужно было написать эту песню в тот момент для Барбры Стрейзанд. Он пригласил этого поэта к себе домой и говорит, что в 4 часа ночи он чего-то не спал, вышел во двор к себе, а у него тогда большая территория была, увидел, что этот поэт сидит на лавочке, его освещает лунный свет, он сидит с бумагой, и бумага мокрая от слез. И он написал: прямо у него пошло – за одну ночь. Он показал Уолтеру то, что он сделал. И они без единой правки записали потом эту песню с Барброй Стрейзанд, которую она спела с первого дубля. Песня до мурашек. Выходит она, правда, только сейчас. Потому что на тот момент, как мне Уолтер сказал, Барбра Стрейзанд вышла замуж – и альбом приобрел такие, веселые, краски. А песня слишком трагичная была. Она ее просто отложила.
– Ты смотри.
– Да. Это очень часто бывает.
– 19 лет песня ждала.
– Да. Это бывает часто: гениальные произведения по различным причинам, часто не связанным с силой самой песни, откладываются.
– Очень интересно.
– Ну, я надеюсь, что все-таки сейчас она выйдет, и это будет очень сильно.
– Ты сфотографировался с Барброй Стрейзанд?
– Нет, она не любит фотографироваться.
– Да ты что!
– Я у Уолтера спросил – говорит: «Не проси ее».
– Хорошо. Кого еще из великих музыкантов мирового класса ты видел за это время, с кем ты работал, кому ты жал руку, кто ходил с тобой рядом, дышал с тобой одним воздухом?
– Нил Даймонд. Это не очень известное имя здесь, но там это как Окуджава, допустим. Аналог. Это такая легенда кантри-музыки в Америке. В 60-е годы, если посмотреть сегодня статистику и чарты того времени, кто в Америке был на первом месте: Элвис Пресли, Барбра Стрейзанд, The Beatles, Нил Даймонд. В первой пятерке, десятке они периодически смещали друг друга.
– Интересный человек?
– Да. Он, правда, болен уже: у него Паркинсон.
– Но аура есть?
– Да.
– Дальше.
– Надо подумать.
– Кенни Джи, наверное?
– Кенни Джи, да.
– Но скажи, кто это.
– Это самый известный, наверное, на сегодняшний день саксофонист.
– В мире.
– Да. Если вы слышали как минимум одну песню с саксофоном, велик шанс того, что это был Кенни Джи.
– То есть номер один в мире?
– Пожалуй. Хотя многие так, скептично, настроены по отношению к его звукоизвлечению. Там уже такие, музыкантские, темы. Но да, это, пожалуй, самый известный и самый топовый саксофонист на сегодняшний день.
Рекомендации для визы мне подписали Кенни Джи, Леона Льюис и Дэвид Фостер
– Но что интересно: когда встала речь о том, чтобы тебе сделать рабочую визу, чтобы ты мог по закону работать в Соединенных Штатах Америки… У тебя же контрактов много. Кто тебе дал рекомендации личные, письменные для получения визы?
– Кенни Джи.
– Кто еще?
– Леона Льюис. Это известная британская певица. Дэвид Фостер, друг Уолтера.
– Ничего себе…
– Один из самых топовых продюсеров в 80-е, 90-е, 2000-е.
– Да, Дэвид Фостер – это крутизна какая крутая…
– Да. Это, можно сказать, основной такой человек. С ним связаны все: от Майкла Джексона до Уитни Хьюстон. Все самые большие хиты – это Дэвид Фостер.
– То есть Дэвид Фостер рукой написал тебе рекомендацию?
– Да. Находясь в туре по Азии, я ожидал где-то две недели. Да, он подписал.
– Фантастика. Смотри. То есть эти люди, которые являются символами мирового истэблишмента музыкального… Вот он не гнушается потратить время, чтобы талантливому мальчику откуда-то из Украины написать какие-то важные строки. Да?
– Ну, он подписал. Он не мог тратить время на то, чтобы писать самому. Это слишком затратно. Но он подписал.
– Дэвид Фостер.
– Да. И пожелал мне удачи. Я ему потом написал благодарность: после того, как я получил визу. Я написал: «Спасибо вам, потому что благодаря в том числе и вашему письму я смог продолжить здесь пребывание и работать дальше».
– Он тебе ответил?
– Он мне ответил, да. Он сказал, что «я тебе желаю удачи». Как-то так, по-доброму.
– А Кенни Джи лично – да? – рукой написал.
– Ну, тоже подписал. Никто не будет писать. Это иллюзии. Люди говорят как? Они говорят: «Пришли мне свою музыку». Я посылаю музыку. Потом они говорят: «Присылай письмо. Я подпишу без проблем».
– Понятно. Хорошо. Надо сказать, что у тебя была прекрасная запись, мне кажется: музыка очень хорошая и запись хорошая с оркестром киевской филармонии. Да?
– Да.
– Под руководством маэстро Романа Кофмана.
– Да.
– Выдающийся дирижер вообще. Он лично дирижировал оркестром. Они исполнили твою музыку. Очень красиво.
Вот на сегодняшний день как тебе кажется, ты как композитор имеешь шансы стать мегакрутым композитором?
– Я думаю, да. Но тут много факторов.
– Каких?
– Быть в правильном месте в правильное время – самый важный фактор.
– Ну ты в правильном месте. Ты работаешь в Лос-Анджелесе.
– Теперь нужно в правильное время быть тоже. Есть композитор такой Алан Сильвестри. Кстати, выпускник Беркли тоже. Если не ошибаюсь, он был саксофонистом. И в один прекрасный день он получил звонок. Спросили: «Это Алан Сильвестри?» Он говорит: «Да». – «У нас есть вот фильм. Мы хотим, чтобы вы написали музыку». Он не писал музыку вообще, он саксофонист. Говорит: «Хорошо». Потом оказалось, что они не тому Алану Сильвестри позвонили. Сейчас, на секундочку, это композитор фильмов «Назад в будущее», «Ночь в музее»… Там очень большой список. «Форрест Гамп».
– То есть есть шанс, что будут звонить мне, а дозвонятся до тебя?
– Да.
– То есть шанс этот есть?
– Есть. Может быть и наоборот. Ты тогда соглашайся – я напишу.
Фото: Dmytro Gordon / Facebook
– Ты написал музыку сейчас к голливудскому фильму. Китайцы снимали в Голливуде, да? Что это за кино?
– Мы еще работаем пока что.
– Ну, ты закончил свою часть уже?
– Не до конца. Потому что у меня еще нет последних нескольких сцен.
– Сколько времени ты писал музыку эту?
– С 19-го года.
– Два года.
– Да. Мы попали в COVID-19 просто. Получилось так, что мы должны были закончить еще в марте 20-го. И в Китае как раз уже гремел COVID. Они, по сути, посчитали: «Чего мы будем сейчас заканчивать фильм? Кинотеатры закрыты».
– То есть это художественный фильм, который выпускает Голливуд по заказу Китая?
– Я не знаю подробностей вот так – на 100%. Я знаю, что это китайское спонсирование, это китайская компания, которая при этом находится в Лос-Анджелесе. Потому что проплата мне шла из города Глиндэйл. «Тайммашин Филмс» компания называется. Они решили сделать такой фильм как бы для Китая, но при этом все съемки проводились в Лос-Анджелесе с актером Элайджей Вудом – звездой «Властелина колец».
– А, понятно.
– Это криминальная драма на актуальную тему: приложений и игр, которые приводят детей и подростков к самоубийствам.
– Тебе интересно было писать музыку для голливудской картины?
– Ну, я же это и хотел делать. Конечно.
– То есть ты сегодня хочешь работать все-таки в кино?
– Да.
– Этот фильм – судя по замыслам режиссеров и продюсеров, посмотрят сотни миллионов людей в мире.
– 2 млрд китайцев, возможно.
– Скажи, пожалуйста, куда-то будут выдвигать его? На какие-то премии?
– Да, на фестивали, конечно.
– Может, на «Оскар» даже?
– Не знаю. «Оскар» – это тоже своя мафия, и свои правила там действуют. Поэтому…
– Но куда-то выдвигать будут?
– Куда-то будут, да.
– И не исключено, что ты прославишься.
– Не исключено.
– А ты хочешь прославиться?
– В принципе, фотографы мне не грозят и композиторов никто не преследует. Поэтому – да. Почему б и нет?
Есть вариант, что искусственный интеллект будет писать музыку для фильмов в ближайшее время
– Тебе на днях исполняется 26 лет.
– Да.
– Вот скажи, пожалуйста… Ты много успел уже, я считаю. Ну реально много. Ты получил фундаментальное образование. Ты живешь в Лос-Анджелесе. Причем не просто на правах беженца или эмигранта – ты работаешь там. Ты зарабатываешь приличные деньги, ты платишь налоги, ты ведешь легальный, красивый образ жизни, ты общаешься с выдающимися людьми мирового значения, ты занимаешься любимым делом… Ну, в 26 лет это достижение, конечно же. Ну, вот где потолок? Ты его видишь: свой потолок?
– Ну, до потолка очень далеко еще. Спасибо, во-первых, за комплименты.
– Ну, я же правду говорю. То есть потолка ты не видишь пока?
– Он гигантский, он высокий очень в Америке. Я думаю, что если бы я был в Киеве, то я бы, наверное, его видел и думал, что года четыре – и, наверное, я буду уже там, если все правильно пойдет. В Америке – я не знаю, где потолок.
– Как тебе кажется в твои практически уже 26 лет, жизнь удается? Вот это то, о чем можно мечтать? Или ты чем-то не доволен?
– Ну я много чем не доволен, конечно. Ну, музыкальная индустрия сегодня очень меняется быстро. Мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Есть вариант, что искусственный интеллект будет писать музыку для фильмов в ближайшее время.
– И тогда…
– Много людей останутся без работы. Потому что, по сути, сегодняшняя функция кинокомпозитора – это создать атмосферу на протяжении определенной сцены. Так было и раньше, но раньше были еще такие, принципиальные, режиссеры, у которых был свой замысел и которые говорили: «Я хочу сделать такую картину и я хочу поломать стереотипы, я хочу сделать что-то новое и интересное». Сегодня их не так много, их подавляют студии. Студиям нужна окупаемость. Поэтому очень часто режиссер не имеет права голоса, а если имеет, то он полностью подчиняется тем стандартам, которые предлагает ему студия. И они просто хотят музыку «как у кого-то». Вот «напишите мне музыку, как в «Бэтмене», например. И что делает композитор? Он слушает «Бэтмена»…
– И пишет такую же музыку.
– И пишет. Там минимальные изменения, чтобы не засудили. Но вот оно должно быть очень близко, потому что иначе режиссер скажет: «Ну нет. Ну вот же «Бэтмен». Это же не похоже. Давай еще». И с этими функциями будет справляться машина вполне.
– Но ты же не только к фильмам пишешь музыку, не только для исполнителей, но и для игр каких-то компьютерных, я так понимаю?
– Ну вот сейчас аппликация эта, детская, с дракончиком: «Маленький Голубой Дракончик».
– Что это значит?
– Это аппликация, которая идет вместе с принтованной книгой, напечатанной. И с помощью планшета или телефона, смартфона можно увидеть, как картинки оживают, можно как-то взаимодействовать с персонажами в этой истории. Ну такая вот… «Расширенная реальность» это называется. Мне это больше нравится, чем фильмы, если честно. Я вообще считаю, что за этим будущее. Потому что, судя по тому, что произошло после COVID-19, кинотеатры будут закрываться.
– Да?
– Да. Они будут приобретать роль театров, а со временем люди отучатся ходить вообще в кино вот так: прийти и заплатить, там, $20, грубо говоря, и сидеть с другими людьми в одном зале.
– Но это же магия: большой экран, зал… Это же не просто дома лежишь на диване и смотришь телевизор.
– Ну а рядом там мужик кашляет или ребенок кричит. А дома – нет. Дома можно сесть спокойно в своей обстановке. Не понравился фильм – переключил. Это кому что нравится. Поэтому игры, расширенная реальность, виртуальная реальность – я думаю, что за этим будущее. Там нужна музыка. И честно говоря, мне это нравится даже больше. Потому что музыки нужно меньше, но времени на работу дается больше, и можно лучше проработать каждую секунду. В фильме ты гонишься. Вот я когда писал к этому китайскому фильму, когда еще не было COVID-19, мне ставили дедлайн: «Нужно восемь минут музыки послезавтра». Четыре минуты музыки в день. Если сложная сцена, это очень много. Это 10–12 часов работы в день.
Я работаю от шести до 12–14 часов в день
– А сколько ты работаешь ежедневно?
– По-разному. От шести до 12–14 – в зависимости от дедлайнов.
– Голова не начинает вращаться в обратную сторону от такого количества музыки?
– Да, начинает. И ухо замыливается, и спина болит, и уши тоже болят от наушников, когда долго слушаешь. Есть свои минусы. Поэтому мне не нравится этим работа с кино, но нравится больше работа с игрой: когда можно меньше времени проводить за музыкой, но качественнее ее делать. Потому что она циклируется.
– Ты сказал, спина болит. Ты все-таки спортсмен. Давай мы скажем: четырехкратный чемпион Европы среди детей… Или юношей. Как правильно?
– Юношей, да.
– Среди юношей по каратэ.
– Это в прошлой жизни уже было.
– Тем не менее. Как это называется?
– Нунчаки.
– Нунчаки, да. То есть ты чемпион Европы по нунчакам. Да?
– По ката с оружием. Там разные претенденты выступали с разным оружием. Ката – это показательный бой, так называемый бой с тенью.
– Да. Я тебе скажу, что, конечно, когда я видел, как ты общаешься с оружием: с нунчаками…
– И с тарелками.
– И с тарелками. Ну, когда двое нунчак еще в руках, и ты, там, начинаешь вот это делать, голова кружится, честно говоря. Ты в зале тренировался. А сегодня с каратэ закончено?
– Ну, трудно… Трудно находить время. Тогда были определенные цели. И я знал, что есть соревнования или есть сдача на пояс. Я к этому шел.
– Какой у тебя пояс?
– Черный, 1-й дан по рукопашному бою. Сейчас нет четко поставленных целей. Поэтому трудно так заставлять себя тренироваться.
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook
– Ты в зал ходишь в Лос-Анджелесе?
– До того, как его закрыли, ходил, да.
– А если сейчас ты возьмешь нунчаки…
– Нормально будет.
– Пальцы помнят?
– Да, помнят. Кстати, недавно совсем брал две. Все в порядке. Выносливость немножко упала за год. Потому что не было такой физической активности…
– Но с двумя работаешь по-прежнему?
– Да. Если бы у меня так руки помнили, как играть на фортепиано, я бы вообще пошел, наверное, уже гораздо дальше.
– Нунчаки у тебя круче, чем фортепиано.
– Да.
– Так, может, ты не композитор совсем?
– Может быть, да.
Ощущаю ли я Киев своим городом? Уже нет
– Понятно. Находясь в Америке, в Лос-Анджелесе, по Киеву, по Украине ты скучаешь?
– Да.
– Ты ощущаешь Киев своим городом?
– Уже нет.
– Вот так?
– Да. Я это понял вот сейчас.
– Расскажи, пожалуйста, с этой минуты подробнее.
– Немножко… Ну, не немножко – множко по-другому все. Люди по-другому себя ведут, машины по-другому ездят, дома по-другому выглядят, стандарты другие, приоритеты другие, другой менталитет. Есть большая разница.
– То есть Лос-Анджелес теперь больше твой город, чем Киев?
– Да.
– Вот так?
– Да.
– Какой плюс есть? Вот мне иногда говорят: «Та шо, там, та Америка?» Какой плюс вообще в Америке есть? Там же и минусы наверняка есть.
– Много, конечно.
– А давай о плюсах и минусах Америки поговорим. Давай с плюсов начнем.
– Ну, давай с минусов. Потому что если закончим на минусах, будет депрессивно. Лучше начать с минусов.
– Давай с минусов.
– Очень трудно начинать в Америке. И есть какие-то базовые потребности, которые приходится откладывать. Вот то, что в Киеве, в Украине и других странах постсоветского Союза считается абсолютной нормой… Бесплатная медицина, например. Да, это очень неудобно: ждать подолгу врача. Иногда врач нехороший попадается. Есть моменты. И я не говорю, что здесь лучше в этом плане. Но есть ожидание, что если у тебя болит спина, ты идешь к массажисту, а если ты не можешь себе позволить его, то, скорее всего, кто-то тебя направит.
– В Америке – нет?
– В Америке очень трудно этого добиться. Ты приходишь и говоришь: «У меня спина болит» – тебе прописывают антибиотик.
– Да?
– Чтобы не болела. Да.
– Это по страховке?
– Это если у тебя страховка есть. Если нет – прописывают, и ты можешь пойти заплатить за него, если у тебя есть деньги.
– У тебя страховка?
– Да.
– То есть тебе назначают время. У тебя она болит, а тебе назначают время, когда врач свободен. Правильно?
– Да. Это может быть через два месяца.
– А все это время пей антибиотик?
– Да. Если вообще назначат к врачу. Тоже такой момент. Потому что доктор может посчитать, что «да нет, тебе не нужен массажист. Ты же ходишь. Если бы ты уже лежал и хекал, тогда, наверное, да».
– Какие еще минусы?
– Трудно питаться хорошо.
– В Бостоне вообще было плохо дело. Да?
– Да, да. Вообще по Америке не очень хорошее качество еды. В Калифорнии она самая лучшая, она действительно натуральная и вкусная. Калифорния, можно сказать, кормит всю Америку. Вот я был в Массачусетсе, в Аляске – и там, и там такое себе.
– Ну в Аляске откуда взять еду?
– Ну, оно все замороженное, да. Там только морепродукты. Хотя вот на Гавайях тоже вкусная еда.
– Ты был на Гавайях?
– Да. Гавайи, Калифорния – вкусно. Но дорого. Если так питаться, как у нас в Украине принято: что суп на первое, на второе, там, котлета с пюре, с овощами…
– На третье компот.
– Да, компот, еще десерт какой-то. Ну извините, это надо зарабатывать хорошенько, чтобы так кушать. Большинство американцев питается совершенно не так.
– Гамбургерами.
– Ну, те, у кого совсем плохо, – да, гамбургерами. Они очень плохого качества. Никогда не забуду, когда впервые попробовал «Макдональдс» в Америке. Самое худшее, что я пробовал.
– Да ты что!
– Ужасно. В Украине это считается не то чтобы деликатес, но с компанией зайти в Макдональдс – о, класс! Праздник особый, какой-то день или случай.
– А там не вкусно?
– Нет, там питаются бомжи и малоимущие семьи. Это невкусно, плохо себя чувствуешь. Я помню, вышел – и почувствовал, что вспотел от количества соли, которая была на этих булках или в котлете – не знаю. Котлета пережарена. Отвратительно.
– То есть питание не фонтан и дорогое.
– Не фонтан, если ты не можешь себе позволить подороже чуть-чуть.
– Магазины натуральных продуктов. Да?
– Да. Ну вот есть магазин натуральных продуктов «Хоул Фудс», а еда вообще невкусная просто потому, что они боятся туда лишнего добавить. Туда ходят люди с аллергиями и хипстеры.
– Ну и рестораны тоже не фонтан. Да? В Киеве получше, по-моему.
– Тоже не фонтан, да. Хотя смотря где. Для тех, кто, опять же таки, может очень большую сумму вывалить, – то все, что хочешь: и крутящаяся башня под центром Лос-Анджелеса…
– То есть, в принципе, в Америке все есть. Да?
– Да. Но очень большой разрыв.
– Так. Еще минусы.
– Конкретно в Лос-Анджелесе транспорт: общественный транспорт не развит. Город очень растянутый…
Я взял в лизинг в США Toyota Corolla 2016 года и платил за нее $142 в месяц
– Ну слушай, давай скажем: ты приехал, молодой парень. Ты берешь в лизинг машину.
– Да.
– Новую.
– Да.
–Ты берешь Toyota Avensis, да?
– Corolla.
– Toyota Corolla ты берешь. Давай расскажем. Сколько ты заплатил? В лизинг ты берешь новую машину.
– Да. Мне помогла моя четвероюродная сестра очень хорошую сделку сделать. Я платил $142 в месяц за эту Corolla.
– А сразу ты платишь что-то?
– Они хотели $2 тыс. сразу, а мы заплатили, по-моему, $1 тыс. тогда.
– То есть ты заплатил $1 тыс. долларов и платишь ежемесячно $142.
– За Toyota Corolla 16-го года. То есть это в тот же год, когда я приехал.
– Когда приехал. И имеешь новую машину. Сейчас ты ее поменял. У тебя Toyota какая?
– 20-го. Toyota Corolla.
– Toyota Corolla тоже. Ну, слушай, хотел бы я тут так поездить.
– Да, это плюсы.
– Ну конечно.
– Но не каждый, опять же таки, может себе это позволить. Потому что…
– $142 в месяц?
– Нет. Есть такая вещь как кредитная история в Америке. Тут она не развита совсем. Но если ты только приехал, у тебя нет стабильного дохода или дохода, который ты можешь подтвердить, если у тебя нет карточек открытых и так далее, тебе не дадут просто такой контракт, сколько бы ты ни предложил им платить. Или, может быть, ты сможешь с ними договориться, но тогда будешь платить, там, $2 тыс. сразу, грубо говоря, и потом $180 в месяц. Просто потому, что ты не знаешь, насколько ты сможешь платить в дальнейшем. То есть тебе нужен человек, который за тебя поручится. Тебе нужен кто-то в Америке, кто зарабатывает, там, грубо говоря, в четыре раза больше.
– За тебя четвероюродная сестра поручилась?
– Да.
– Давай ее назовем, поблагодарим.
– Да, Ксюша, спасибо.
– Фамилию назовешь?
– Гонан Ксения. И ее супруг Дэвид. Спасибо им. Они меня устроили.
– Муж американец у нее – да?
– Да, да. Они меня возили тогда по всему городу, мы смотрели квартиры. Они со мной машину поехали брать. Они полностью мне организовали быт.
– Вот скажи спасибо. У тебя есть возможность.
– Ну конечно. Спасибо. Я не знаю, куда смотреть, но спасибо.
– Плюсы какие?
– Плюсы… В любой момент можешь взлететь очень хорошо. Что-то вот повернется – и вчера ты никто, а сегодня ты все. Это, по-моему, только в Америке такое может быть с большим количеством людей. Всегда есть к чему можно стремиться. Нет потолка в принципе.
– То есть страна возможностей.
– Ну, да. Конечно. Конкретно в том же Лос-Анджелесе даже дышать воздухом с таким количеством людей, которых наблюдаешь по телевизору с детства и наслаждаешься их творчеством… Понимать, осознавать тот факт, что ты там находишься и в любой момент вот на улице можешь встретить кого-то…
– А с кем ты встретился где-то в двери?
– Дэнни Де Вито. Да, он выходил из ресторана, и с Уолтером они пообщались. Они работали над фильмами. Раньше «Геркулес» был: такой, анимационный, фильм, мультик, у Disney. Они тогда познакомились.
– Тебя представили?
– Да, он представил. Но я тогда никто был. Я только приехал. Он сказал: «Вот Дима».
– Бред Питт?
– Бреда Питта видел в машине. Он выезжал прямо возле моего дома. Там Worner Brothers неподалеку, прямо на углу. Я увидел, как он выезжает сам за рулем.
– Но он видел, что ты идешь?
– Нет.
– Поприветствовал тебя? Нет?
–Ты думал, он мне кивнет?
– Нет, я думал, он выйдет из машины сказать: «Здравствуй, Дима»
– Он повернул шею посмотреть, не едет ли никто, и выехал себе.
– Понятно. Хорошо. Плюсы еще какие?
– Ну, в целом, скажем так, несмотря на все плохое в медицине той же… Я и многие другие, кто живет в Америке, американцы считают, что медицина в Америке плохая. Она, опять же таки, плохая для тех, кто не может себе позволить лучше. Но при этом если какое-то действительно серьезное заболевание, людей почему-то переправляют либо в Израиль, либо в Америку, либо в Германию. И Америка, как правило, на передовой по технологиям в медицине, в науке и во всем остальном. Это дает о себе знать. Это, опять же таки, к потолку.
– А скажи: Америка – добрая страна или нет?
– Сейчас не очень. Очень разъединенная.
– Но люди добрые в большинстве своем?
– Да, да. В большинстве – да.
– Хорошо. Скажи, пожалуйста: вот тебе 26 лет. Что такое любовь, ты представляешь уже?
– Да. Думаю, да. Ну, любовь разная бывает. Смотря какая, к чему, к кому.
– Хорошо сказал. То есть бывает любовь к Родине.
– Да.
– Бывает любовь к родителям, к родственникам.
– Да.
– А бывает любовь к женщине.
– Да.
– Хорошо. Тебе понятны все три любви?
– Они, наверное, никому не понятны до конца. Я не знаю. Мне кажется, что да, но… Может, и нет.
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
– Когда ты пишешь музыку, тебе хочется в данный момент написать нечто такое, что просто будет невероятным?
– Обычно после этого меня просят переписать. Да. Всегда. Да. А иногда это не нужно, к сожалению. Поэтому возвращаюсь к вопросу, что бы мне хотелось в будущем… Я как-то неосторожно в интервью одну фразу сказал – потом меня ткнули в нее носом офицеры и сказали: «Ах вот он это сказал – значит, он, там, не дорос еще». А я сказал, что я хочу, чтобы когда-нибудь мне не нужно было писать к фильму, а я бы просто писал что-то – и ко мне бы приходил режиссер и говорил: «Я хочу это использовать вот для такой-то сцены». И чтобы у меня было право сказать «да» или «нет» и договориться об условиях. Это есть на самом деле. Это не то чтобы, там, какая-то недостижимая мечта. Так очень часто делают. Современные композиторы, такие, как Филипп Гласс, Макс Рихтер… Есть несколько таких имен, которые не из мира кино вообще. Они просто пишут, и потом где-то кто-то это слышит, приходит к ним и говорит: «Я хочу использовать это».
Вот яркий пример – фильм Arrival по-английски. Я не знаю, наверное, «Прибытие» по-русски он назывался. 16-го года. Композиция Макса Рихтера минималистическая для струнного квартета играла в начале и в конце фильма. Он не писал к этому фильму, но она идеально туда встроилась. И под нее монтировался фильм. Это было одно из самых мощных таких киновпечатлений, которые у меня были, когда я это увидел в кинотеатре, когда я услышал то, как это сосуществует вместе. Это гораздо лучше, чем многое, что композитор пишет специально для конкретной сцены.
– Дима, я тебе благодарен за беседу. Я хочу тебе пожелать реализации, стать звездой, которую знают во всем мире. Цоя вспомнил: «Звезда по имени Солнце». И чтобы ты был счастлив. Подозреваю, что пройдет много-много лет – ты будешь смотреть это свое интервью, и тебе будет приятно. И для этого, собственно говоря, я его и записываю.
– Буду плакать, да.
– Не исключено. Не исключено. Но это будут хорошие слезы.
– Да.
– Спасибо тебе.
– Спасибо тебе. Побывал в гостях у Гордона. Ты.
– «Ты» – это было важно. Спасибо.
ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube