Одним из важнейших разделов философии является гносеология – дисциплина, изучающая познание, его методы, возможности и теоретические пределы. В ней существует такое направление как гносеологический пессимизм – концепция, согласно которой познавательные возможности человека ограничены и никогда не позволят нам в полной мере понять истинную природу реальности.
Пессимистический подход включает 2 ветви:
- Агностицизм. В рамках данной концепции мир считается непознаваемым для человека. Иными словами, всегда будут существовать вопросы, достоверные ответы на которые невозможно получить имеющимися в распоряжении средствами и методами.
- Скептицизм. Эта концепция подвергает сомнению саму возможность достоверного понимания того, насколько верны наши представления о мире и объектах в нём.
Сегодня мы подробно поговорим о скептицизме, рассмотрим его основные идеи, перечислим наиболее известных сторонников, выясним, за что его критикуют, и разберём, чем он отличается от агностицизма.
Что такое скептицизм?
Если говорить простыми словами, скептицизм – это направление в философии, считающее сомнение главным принципом мышления. В частности, скептицизм подвергает сомнению надёжность истины (то есть, отрицает возможность уверенно утверждать, что имеющиеся у нас знания об окружающем мире соответствуют объективной реальности).
Скептицизм возник в IV веке до нашей эры. Его основателем считается древнегреческий философ Пиррон (приблизительно 360-275 годы до н. э.), идеи которого позже развил Секст Эмпирик (годы жизни неизвестны, ориентировочно – II-III век нашей эры).
Интересной особенностью скептицизма является его толерантность по отношению к любым религиозно-философским концепциям и воззрениям. Сторонники данного направления исходят из того, что никакое утверждение не может претендовать на роль единственной и непоколебимой истины. При этом нельзя как утверждать что-либо с абсолютной уверенностью, так и отрицать.
Основные идеи скептицизма
К числу основных идей скептицизма относятся следующие тезисы:
- даже если знание выглядит достижимым и достоверным, оно не может быть признано таковым;
- человеку недоступно как абсолютное знание, так и любое достоверное знание вообще (поскольку оно получено посредством эмпирического познания, которое не может считаться абсолютно надёжным источником);
- человеку недоступно достоверное знание о каких-либо метафизических явлениях и объектах (Боге, мире, причинности и т.п.);
- любая гипотеза нуждается в проверке, при этом ни одна проверка не может считаться достаточной или окончательной;
- никакой из методов научного познания не может дать достоверных знаний об объективной реальности;
- все имеющиеся у человечества знания являются лишь предположениями и гипотезами, которые невозможно доказать;
- философ должен воздерживаться от каких-либо окончательных суждений.
Скептицизм считает все наши знания относительными и требует их критического переосмысления. В этом смысле он противопоставляется догматизму – некритичному способу мышления, опирающемуся на догмы. Несмотря на то, что догматизм свойственен прежде всего религиям, античные скептики называли догматиками всех философов, которые выдвигали и отстаивали какие-либо утверждения.
Скептицизм Пиррона
Создателем данного философского направления считается древнегреческий философ Пиррон (приблизительно 360-275 до н. э.). Он примечателен тем, что принципиально не писал книг и трактатов, поэтому его идеи сохранились только благодаря ученикам и последователям. В частности, его идеи развивали такие мыслители как Энесидем, Агриппа и Секст Эмпирик.
Античные скептики отождествляли учение Пиррона и скептицизм, и в их трудах слова «скептический» и «пирроновский» часто использовались как синонимы. В некоторых случаях это создавало путаницу, поскольку не все идеи Пиррона были связаны исключительно со скептицизмом.
Сегодня мы имеем представление об античном скептицизме преимущественно благодаря трудам Секста Эмпирика. Он подробно описал идеи Пиррона, Тимона, Карнеада, Энесидема и других сторонников данного учения.
Пиррон считал, что философ – это человек, стремящийся к счастью, для достижения которого необходимо невозмутимое спокойствие, отсутствие всяческой тревожности и страдания. Чтобы достичь этого состояния, необходимо найти ответы на 3 вопроса:
- Что представляют собой вещи и какими свойствами обладают?
- Как мы должны к ним относиться?
- Что нам даст такое отношение?
Сам Пиррон полагал, что попытки найти достоверные ответы на эти вопросы никогда не увенчаются успехом, а значит, не могут привести к счастью. Поэтому он предлагал отвечать на них следующим образом:
- Мы не можем этого знать.
- Мы должны воздерживаться от суждений о вещах.
- Намеренно воздерживаясь от суждений, можно избежать тревоги.
Таким образом, он считал, что достичь философского счастья можно, отрицая саму возможность знания и понимания природы вещей. Состояние умиротворения, возникающее благодаря отказу от знаний, Пиррон позиционировал как высшую степень блаженства и называл «атараксией«. Он сам, а вслед за ним и другие скептики порицали стремление к достоверному знанию, считая его источником тревог и страданий.
Скептицизм Секста Эмпирика
Секст Эмпирик – древнегреческий врач и философ, живший во 2-3 веках нашей эры (достоверных данных о месте рождения и годах жизни нет). Это самый известный из последователей Пиррона, прославившийся, в частности, книгой «Пирроновы положения», которая и сегодня остаётся важным трудом для людей, изучающих философию.
В своих работах он изложил методологию скептического сомнения, которая основывалась на критическом осмыслении накопленных знаний в области философии и других естественных наук того времени. Кроме того, Секст Эмпирик коснулся и вопроса существования богов. Сопоставив религию с атеизмом, он пришёл к выводу, что нейтральный скептицизм является наиболее разумной позицией.
Стоит отметить, что атеизм, как и любая религия, противоречит основной идее скептицизма (ничто не может быть доказано или опровергнуто однозначно). Но советский философ Вениамин Богуславский, изучая работы Эмпирика, отмечал, что тот явно склоняется к атеизму, поскольку критикует религиозные взгляды вдвое чаще, чем атеистические.
В своих работах Секст Эмпирик показывает, что скептицизм является самостоятельным направлением в философии и его нельзя смешивать с другими. Причина в том, что любое другое направление одни сущности признаёт, а другие – отрицает. Скептицизм же одновременно и допускает, и подвергает сомнению все сущности.
История развития скептицизма
Как было отмечено выше, скептицизм зародился в Древней Греции и его основателем считается Пиррон. Позже его идеи развивали такие мыслители как Гераклит, Энесидем, Агриппа, Секст Эмпирик и другие известные античные философы. Со многими идеями скептицизма, в частности, был солидарен и Сократ, хоть он и не был скептиком.
Причиной зарождения скептицизма стало то, что античные философы столкнулись с проблемой субъективного познания, которое зависело от индивидуальных особенностей восприятия. При этом существовало большое количество философских течений, основанных на противоречащих друг другу идеях и теориях. Наряду с этим существовала религия, которая исключала сомнения и предлагала принимать на веру ничем не обоснованные догматы.
Все эти противоречия привели мыслителей к проблеме кругового доказательства, которую можно выразить в трёх тезисах:
- Любое утверждение основывается на других утверждениях.
- Ни одно из утверждений не может считаться неопровержимым.
- Выбор исходной точки для построения логического доказательства также требует обоснования.
Эти три тезиса представляют собой замкнутый круг, заставляющий сомневаться в том, что истина вообще может быть установлена. Таким образом у античных мыслителей было два варианта: либо вообще исключить возможность накопления достоверных знаний, либо смягчить требования к истине. Они посчитали, что наиболее разумным подходом будет принятие скептицизма как критерия рациональности, руководствуясь которым, можно принимать оптимальные решения.
К слову, проблема кругового доказательства никуда не исчезла и продолжает существовать в современной философии, являясь её постоянным и неотъемлемым элементом.
Приняв такой подход, античные скептики предлагали соблюдать законы, заботиться о собственном здоровье и наслаждаться жизнью, удовлетворяя свои физические потребности и стремление к знаниям. Особенно полезным данный подход оказался для развития античной медицины, которая благодаря ему приобрела первые черты доказательной науки. Стоит отметить, что аналогичные подходы появились тогда в Индии, Китае и на Среднем Востоке.
Средневековье было не особо благоприятным периодом для скептицизма. Вся Европа находилась под сильным влиянием религии, в связи с чем приветствовалась беспрекословная вера в истинность церковных догматов, а любые сомнения были под запретом. Вновь востребованными идеи скептиков оказались в Эпоху Возрождения, когда на смену авторитету религии пришёл авторитет знаний и разума. Скептицизм снова стал одной из главных движущих сил развития науки.
В философии Нового времени концепция скептицизма была пересмотрена. Теперь его рассматривали как направление, значительно расширяющее возможности познания и способное устранить любые существующие противоречия. Основными представителями скептицизма Нового времени были Франциско Санчес, Мишель де Монтень и Дэвид Юм.
Критика скептицизма
Исторически основными противниками и критиками скептицизма всегда были стоики. Скептики указывали всем учёным на то, что их знания субъективны и никак не могут быть доказаны. Их основным аргументом в спорах было утверждение «Знание требует уверенности, а ваше учение такой уверенности дать не может».
Этим тезисом и пользовались стоики, найдя в нём логическое противоречие. Они спрашивали: «Если всякое знание требует уверенности, то как вы сами можете знать и утверждать это?». Этот вопрос указывает на реальное логическое противоречие, позволяя критиковать скептицизм даже сейчас.
Также скептицизм обвиняют в том, что благодаря ему христианство распространилось по миру и стало господствующей религией. Дело в том, что именно скептики первыми начали широко критиковать политеистические религии, господствовавшие в мире во времена Античности. Они заставили людей сомневаться в своей вере в древних богов, но не предложили ничего взамен, и христианство появилось как раз в удачный момент, чтобы занять освободившуюся нишу.
Чем скептицизм отличается от агностицизма?
По сути, агностицизм возник из скептицизма, так что между этими двумя направлениями много общего. И всё же их нельзя отождествлять или совмещать, поскольку есть ряд фундаментальных отличий. Агностицизм исходит из того, что человеческие способности познания ограничены, но не отрицает возможность достоверного понимания того, насколько точно имеющиеся знания соответствуют реальности.
Скептицизм исходит из того, что достоверно отличить реальность от вымысла невозможно. Все наши знания получены посредством ненадёжных средств чувственного познания, а значит, могут быть недостоверными, и проверить это никак нельзя. Если агностицизм считает наши познавательные способности ограниченными, то скептицизм вообще исключает возможность сколь-нибудь точно оценивать достоверность знаний, полученных эмпирически.

Секст Эмпирик (др.-греч. Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός, 2-я половина II века н. э.) — древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма.
Время жизни Секста Эмпирика точно не установлено. Так, Ф. Кюдлин считал, что Секст жил около 100 года н. э.; Вольграфф — что Секст был главой школы около 115-135 лет н.э. Самое распространённое мнение — это расцвет философии Секста Эмпирика в конце II века н.э. Этой точки зрения придерживались М. Гаас, Е. Паппенгейм, М.М. Патрик, Э. Целлер, М. Дал Пра, В. Брошар, А. Гедекемейер. Эта точка зрения базируется на том, что в III веке н.э. стоицизм перестал быть настолько влиятельным философским течением, чтобы вызвать у Секста столь ожесточённую полемику. Предполагается, что последний скептик критикует стоицизм как основное догматическое учение своего времени. Однако неизвестно, вёл ли Секст актуальный спор со своими современниками-стоиками, или же просто критиковал стоицизм как один из видов догматизма. К тому же скептик критикует далеко не только стоиков, а поздние греческие философы, указывает Д.А. Гусев, считали правильным избегать упоминания современников независимо от своего отношения к ним.
Гален из Пергама неоднократно упоминает некоего Геродота, которого некоторые исследователи отождествляют учителем Секста Эмпирика. Но Гален ни разу не упоминает Секста, хотя подробно обсуждает медицинские течения и называет всех известных медиков. Также он подробно говорит о скептиках, но ни разу не упоминает Эмпирика ни в том, ни в другом плане.
Место рождения также неизвестно. Сам Секст подробно описывает множество земель, которые мог посещать, но все — отстранённо, без личного отношения. В «Суде» упоминаются Секст из Ливии и Секст из Херонии, оба скептики, при этом Секст из Херонии называется автором произведений Секста Эмпирика. Однако «Суда» многими исследователями считается ненадёжной, и, например, Э. Целлер и В. Брошар не учитывают этот источник. Другие же (например, М. Гаас и В. Вольграфф) считают, что упоминание достаточно точно и согласуется с другими данными. При этом у самого Секста Эмпирика про Херонею имеется единственное упоминание (Sext. Emp. Adv. math. I. 295), да и то мимоходом.
Вероятно, жил в Александрии, Афинах и Риме, точные сведения не сохранились. Из сообщений Диогена Лаертского и Галена видно, что Секст Эмпирик был учеником Геродота из Тарса и, в свою очередь, имел ученика в лице Сатурнина. Прозвище «Эмпирик» дано ему, по всей вероятности, потому, что он принадлежал некоторое время к школе эмпирических врачей, прежде чем стал скептиком.
Секст Эмпирик наглядно показывает, что скептицизм не мешает активной жизненной позиции: «скептик из человеколюбия (διὰ τὸ φιλάνθρωπος εἶναι) хочет по возможности исцелить рассуждением самомнение и скоропалительность [заключений] догматиков», предлагая свои рассуждения как лекарства от догматичности мышления (Pyrrh. III, 280).
Философия Секста Эмпирика
Его произведения «Пирроновы положения» (Πυῤῥώνειοι ὑποτυπώσεις) и «Против учёных» (Πρὸς μαθηματικούς) являются основными источниками по философии античного скептицизма.
В этом труде Секст Эмпирик систематизирует основные понятия и методы скептической философии, такие как положение о равной достоверности противоположных суждений (изостения), атараксия (ἀταραξία) — невозмутимость, эпохе (ἐποχή) — воздержание от суждения, апатия (ἀπάθεια) — бесстрастие. Далее приводятся тропы скепсиса — десять Энесидема и поздние пять Агриппы, а также приводятся отдельные скептические моменты у философов, которые не являются скептиками. Во II и III книгах проводится точка зрения скептиков на учения догматиков в области логики, физики (в современном ему понимании, включая религию) и этики. Приводится много свидетельств и фрагментов из учений философов, чьи произведения не сохранились. Эта аргументация затем подробнее раскрывается в трактате «Против учёных».
Своё понимание скептицизма Секст Эмпирик определяет как «скептическую способность» (οὕναμις), которая противопоставляет явления и ноумены всеми возможными способами. Также он описал изменение состояния догматика по мере формирования философа как скептика: сначала возникает конфликт (διαφωνία) понимания, который приводит к нерешительности, затем к пониманию равносилия тезисов (ἰσοσθένεια), воздержанию от суждений (ἐποχή) и, в конце концов, к безмятежности (ἀταραξία).
Также Секст Эмпирик иногда ссылается на свои труды по медицине и о душе, которые до нас не дошли.
Весь цикл «Против учёных» многие делят на две части, из которых одну называют «Против догматиков», а другую «Против отдельных наук». Книги «Против догматиков», объединяясь с другим циклом «Против учёных», обычно в науке именуются такими цифрами: «Против логиков» именуется VII и VIII (так как в этом трактате две книги), «Против физиков» — IX и X (по той же причине) и «Против этиков» — XI (в этом трактате только одна книга и содержится). Что же касается книг, направленных против отдельных учёных, то они соответственно обозначаются римскими цифрами I—VI: «Против грамматиков» (Πρὸς γραμματικού) — I, «Против риторов» (Πρὸς ῥητορικούς) — II, «Против геометров» (Πρὸς γεωμετρικούς) — III, «Против арифметиков» (Πρὸς ἀριθμητικούς) — IV, «Против астрологов» (Πρὸς ἀστρολόγους) — V, «Против музыкантов» (Πρὸς μουσικούς) — VI. Обычно, однако, книги «Против догматиков» ввиду их философской принципиальности печатаются раньше книг против отдельных наук. Поэтому первые и самые принципиальные книги из всего цикла «Против учёных» обозначаются цифрами VII—XI, а книги против отдельных наук обозначаются цифрами I—VI.
Секст Эмпирик окончательно оформил скептицизм, придав ему завершённость. До него скептики по сути занимались лишь критикой догматических философий, указывая на необоснованность их утверждений, но не подвергали сомнению сам скептицизм. Говоря современными терминами, это был скорее агностицизм: вера в то, что мир невозможно познать полностью. Скептицизм стал именно скептицизмом благодаря Сексту Эмпирику, который применил принципы сомнения и к самому скептицизму: это единственная философская позиция, которая сомневается в самой себе. Таким образом, из скептицизма были удалены все возможные «засады» догмы и веры (чего не понимают многие его критики до сих пор). Скептицизм — философия, парадигмально отличающаяся от других философий, поскольку не несёт никакого положительного содержания в принципе.
Метод рассуждений «от позиции противника» использовали ещё Сократ и Платон, которые в диалогах часто показывали ложность точки зрения оппонента, и не всегда при этом заявляли «как надо», ограничиваясь критикой. Секст Эмпирик перенял этот метод, вероятно, через Аркесилая, и в своих рассуждениях точно также использует посылки догматиков против них самих, указывая на их внутренние несоответствия. При этом скептик не строит собственной теории, а лишь указывает на свою правоту в критике догматических философов.
Д.К. Маслов указывает, что для стратегии опровержения в диалоге у Секста Эмпирика, в отличие от предшественников, имеется дополнительная посылка: противопоставление аргументов, суждений по всем вопросам, находящимся в исследовании. Как указывает Секст Эмпирик, скептическая способность заключается в противопоставлении явления мыслимому (Sext. Emp. Pyrrh. I 8), и в результате скептик утверждает что-либо не более, чем другое (Sext. Emp. Pyrrh. I 188-191). Обычно люди в случае оппонирования чему-либо начинают поиск истины, пытаясь установить, где истина, а где ложь. Скептики же противопоставляют тезисам обратные, равные по доказуемости, не признавая что-либо истинным и ложным. Скептики не опровергают оппонентов, доказывая ложность их тезисов — они указывают на то, что невозможно доказать их истинность. При этом аргументы скептика точно также не являются более доказательными, а сама скептическая аргументация является самоопровергающей при её автореферентном применении.
Таким образом, стратегия рассуждений Секста Эмпирика сводится к двум тезисам, которые первым выделил Р. Ла Сала, и упомянутым третьим тезисом:
Основной метод скептика — использование принципа непротиворечия: «Однако во всяком случае невозможно, чтобы одно и тоже было и существующим и несуществующим» (Sext. Emp. Adv. math. I. 295), «Одно и то же по природе не может совмещать противоположности» (Sext. Emp. Adv. math. XI 74). Принцип непротиворечия крайне важен: если его не принимать в обязательном порядке, то какие-либо исследования и рассуждения не имеют смысла. Д. Мачука указывает:
«Секст, по всей видимости, сознательно или неосознанно опирается на закон непротиворечия с двоякой целью: чтобы его негативные аргументы не толковались догматически, и чтобы его аргументативная терапия была ясно понята, поскольку без противоречия мы бы не имели возможности проводить дистинкции, что, в свою очередь, сделало бы рациональную дискуссию невозможной».
Однако при этом Мачука считает, в отличие от других исследователей, что Секст не считает закон непротиворечия истинным, просто он «в некотором смысле вынужден следовать его психологической версии» в рассуждениях.
Секст Эмпирик и скептицизм в целом были забыты почти на полтора тысячелетия, пока трактаты «Пирроновы основоположения» и «Против учёных» не были опубликованы в 1570-х годах в переводе на латынь и неожиданно оказались очень востребованными. Первым скептический метод применил Мишель Монтень в эссе «Апология Раймунда Сабундского», которое явно написано под влиянием пирронизма, затем работами Секста Эмпирика вдохновлялись Гассенди, Декарт, Паскаль и др..
Понимание явления у Секста Эмпирика
Секст Эмпирик указывал, что как явления следует воспринимать не только чувственные ощущения, но и объекты мысли (Sext. Emp. Pyrrh. VIII, 362), рассудка (Sext. Emp. Pyrrh. VIII, 141) и разума (Sext. Emp. Pyrrh. VII, 25). И даже философские высказывания, такие как «воздерживаюсь от суждения». Все подобные явления скептик описывает как летописец: «что мне в данный момент кажется» — образно говоря, отделяя «Я-мыслящее» от «Я-ощущающего».
В своих текстах философ часто использует слово «казаться» в значении «по-видимому», а не в прямом смысле явления, что указывает общность смыслов: в любом случае речь идёт о том, что кажется или является скептику. Важно понимать: скептик всегда учитывает, что воспринимает, чувствует, рассуждает именно он сам, но скептическое восприятие некорректно приравнивать к полному субъективизму (феноменализму). Субъективизм является догматизмом, скептик же заявляет о своих состояниях и переживаниях как о том, что от него не зависит, а испытывается им непосредственно.
Секст Эмпирик противопоставляет явления — то, что доступно человеку для восприятия и осмысления — «скрытому», «неочевидному», а понятие представления близко к аффекции. Часто Секст использует терминологию стоиков, приравнивая явление и представление: «Критерием скептического образа жизни, таким образом, мы называем явление (τὸ φαινόμενον), называя так по смыслу его представление (φαντασία); заключаясь в чувствах и невольных аффекциях (πάθος), оно лежит вне всяких изысканий» (Sext. Emp. Pyrrh I, 22). Таким образом, термины «явление», «представление» и «аффекция» философ использует практически как синонимы, просто в разных контекстах: для противопоставления «скрытому», «вещи в себе» — «явление», для феноменов действительности — «представление», а «аффекцию» — когда требуется подчеркнуть, что явление существует не само по себе, а в нашем восприятии.
Секст Эмпирик использует понятие явления в нескольких смыслах. Явление — это то, что невозможно подвергнуть сомнению, то есть то, что воспринимается человеком невольно, вне зависимости от его желания. Это наши восприятия, представления и аффекции. Также к явлениям он относит обыденную жизнь как она есть, без приложения трактовок догматическими спекуляциями.
Таким образом философ переходит от чистой гносеологии к психологии. Явление является уже не основой знания, но жизни как таковой, а скептицизм — это не оторванное от действительности теоретическое учение, а естественная способность человека. Именно поэтому скептик может жить активно, не противореча скептицизму, а не бездеятельно, что утверждали как недостижимый идеал Пиррон и другие крайние скептики.
Скепсис и практика жизни
В. П. Лега указывает, что Секст Эмпирик разрабатывал скептицизм не как абстрактное «лукавое мудрствование», а потому, что считал его естественным, соответствующем природе человека. Если внимательно читать, то важно, что в текстах Секст говорится не о скептицизме как отвлечённой теории, а о естественной скептической способности человека: «Скептическая способность (δύναμις) есть та, которая противопоставляет каким только возможно способом явление (φαινόμενον) мыслимому (νοούμενον)» (Sext. Emp. Pyrrh. I. 8). Термин «способность» Секст использует по отношению к врачеванию, памяти, суждению, уму, душе и ремеслу — то есть именно для обозначения естественных способностей человека. «Догматической способности» не упоминается: таковой может быть лишь позиция. Таким образом, скептическая способность имеется у каждого человека, поэтому каждый может отказаться от догматизма и достигнуть атараксии (Sext. Emp. Pyrrh. I, 21-24).
Секст Эмпирик описывает, на что он опирается в своей жизни, в виде четырёхчленной схемы (Sext. Emp. Pyrrh I, 23-24):
При этом скептик понимает, что традиции условны и недоказуемы в плане истинности, а в медицине (Секст и многие другие античные скептики были врачами) не рассуждает о скрытых причинах болезни, а руководствуется симптомами (явлениями), из которых и делает выводы о необходимом лечении.
Пиррон писал: «людские поступки руководятся лишь законом и обычаем» (Diog.L. IX 61). Таким образом, отказываясь от выражения догматического мнения, скептик не оказывается в позиции Буриданова осла: запрета на «практическую жизнь» нет, есть лишь отказ от самонадеянности в отношении истины.
Некоторые философы считают, что скептицизм может, условно говоря, практиковаться в разной степени. Дж. Барнс в этом плане указывает на «терапевтическую программу» скептицизма: в соответствии с выраженностью догматизма у собеседника скептик использует аргументы различной силы (Sext. Emp. Pyrrh. III 280-281) и тем самым воздержание от суждения может быть «уже» или «шире».
Однако такая позиция является предубеждённой: скептицизм полагается внутренне противоречивым, а позиция скептиков — неискренней. Скептицизм представляется как негативный догматизм, между тем как скептик всегда оставляет возможность опровержения скептических тропов (Sext. Emp. Pyrrh. I 226): он не отрицает истину, но сомневается в том, что выдают за таковую. Забывается, что Секст Эмпирик рассуждал о критериях действия (Sext. Emp. Pyrrh. I 21-24), а не познании «истинной сути» вещей. Например, для принятия ванны не требуется изучить все свойства воды — важно лишь, чтобы она была чистой и имела приемлемую температуру. Восприятие скептицизма у Секста исключительно как критерия истины — искажение сути его позиции.
М. Габриэль указывает, что концепция «сильного и слабого» скептицизма бессмысленна, поскольку цель скепсиса — практическая жизнь без догм. Скептику важно достижение спокойствия, а не максимизация количества убеждений, поставленных под сомнение.
К. Фогт указывает, что скептик может иметь мнение в смысле навязанного восприятия, которое «исходит из определённых впечатлений, которые без его воли или содействия ведут его к согласию». Навязанные, пассивные впечатления не являются мнениями в прямом смысле слова — следовательно, также и догмами.
Важно понимать, что именно считалось мнением в то время. Как минимум ведущие философские школы — стоики и академики — понимали мнение именно как активное суждение или одобрение, т.е. осознанное принятие разумом некоторого представления. Это суждение соответствовало пониманию мнения Платоном, описанному в «Теэтете» [189e-190a]: по окончании процесса мышления душа, «уловив что-то, определяет это и более не колеблется, — тогда мы считаем это её мнением». Таким образом, мнение образуется всегда активно.
Секст Эмпирик рассуждает именно о процессе образования мнения, и именно об активном согласии неким представлениям, а не о понятии мнения как такового и его отличии от недогматического мнения. Важно и употребление терминов «δόγμα» и «δόξα»: во время жизни Секста «догма» уже обозначала некую доктрину. Логично считать, что философ под догмой понимал именно некое учение, а не просто мнение («δόξα»). Это различение слов у Секста чётко выражено: для него догма относится именно к философии.
Отношение к религии
Секст Эмпирик критиковал не просто народные мифы, но и рациональные основы религии: наличие богов не очевидно и не доказывается (Sext. Emp. Adv. math. III. 9). Также он подвергает сомнению существование провидения, существования души и так далее. Однако при этом он пишет: «Следуя жизни без догм, мы высказываемся, что существуют боги, и почитаем богов, и приписываем им способность провидения» (Sext. Emp. Adv. math. III. 2). Получается, что с его точки зрения имеется некий ракурс, в котором скептицизм совместим с религией. Высказывание Секста о почитании богов — не единственный подобный факт. Диоген Лаэртский упоминает, что сам основатель античного скептицизма Пиррон был верховным жрецом Элиды (Diog. Laert. IX 64).
Кроме того, обсуждая народные представления, Секст Эмпирик нередко приводит явные выдумки (Sext. Emp. Pyrrh. I 81-84). В.А. Васильченко указывает, что подобные странности объясняются с точки зрения филологии компилятивным и эклектическим характером его текстов. Первым на это указал чешский филолог К. Яначек. Такой подход Секста Эмпирика — «все сгодится» — очень схож с методологическим анархизмом П. Фейерабенда, который также, не разделяя веры в мифологию, считал возможным обращаться к ней наравне с наукой в поисках знания.
В.М. Богуславский первым обратил внимание на разное усердие у Секста Эмпирика: антирелигиозная позиция у него гораздо тщательнее и убедительнее, чем «зарелигиозная», и вдвое объёмнее. Атеистические взгляды критикуются очень щадяще, а вот астрономию он отвергает категорически, даже не упоминая о воздержании от суждения. Таким образом, Секст косвенно выдаёт, где у него искреннее личное отношение к концепциям, а где — по сути формальное следование скептицизму.
В.А. Васильченко считает, что эти факты вызывают «необходимость уточнения основных характеристик философского скептицизма как мировоззрения, близкого к атеизму и агностицизму» в смысле того, что скептицизм разрушает метафизические обоснования религий, но при этом бытовую веру оставляет без внимания. Однако это некорректно называть фидеизмом: суть не в вере, а в простом следовании народным обычаям в практической жизни.
Сочинения
Русские переводы:
- Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений. / Пер. Н. В. Брюлловой-Шаскольской, предисл. А. И. Малеина. СПб., 1913. 215 стр.
- Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 т. / Пер. Н. В. Брюлловой-Шаскольской и А. Ф. Лосева. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1976. 125000 экз. Т. 1. 400 стр. Т. 2. 424 стр.
- В «Loeb classical library» сочинения изданы в 4 томах.
- Греческие тексты:
- Сочинения (издание 1842 года).
- Vol. I (издание 1912 года). Пирроновы положения.
1. В 1748-ом году Давид Юм сформулировал проблему, в дальнейшем получившую название «проблемы индукции» и превратившуюся в одну из проклятых философских проблем – наподобие теоремы Ферма в математике. Все новые и новые философы брались за разрешение этой проблемы, — только для того, чтобы или в бессилии опустить руки, или сформулировать решение, которое никто, кроме них самих, не принял бы за реальное решение проблемы. И все-таки плох тот философ, который не попытался бы разрешить проблему индукции. Да и теорема Ферма была ведь, в конце концов, доказана. Но, прежде чем разрешать проблему, надо с ней ознакомиться, и лучше всего это сделать, обратившись непосредственно к Юму.
2. «Два суждения: Я заметил, что такой-то объект всегда сопровождался таким-то действием и Я предвижу, что другие объекты, похожие по виду на первый, будут сопровождаться сходными действиями ― далеко не одинаковы. Если вам угодно, я соглашусь с тем, что одно из этих суждений может быть на законном основании выведено из другого; и действительно, я знаю, что оно всегда выводится из него. Но если вы настаиваете на том, что этот вывод делают с помощью цепи заключений, то я попрошу вас указать эти заключения. Связь между данными суждениями не интуитивная: здесь требуется посредствующий член, дающий нам возможность сделать такой вывод, если только этот вывод вообще можно получить путем рассуждения и аргументации. Но я должен сознаться, что совершенно не постигаю, что это за посредствующий член. Указать его обязаны те, кто утверждает, что он действительно существует и является источником всех наших заключений о фактах»[1].
3. «Все явления, по-видимому, совершенно отделены и изолированы друг от друга; одно явление следует за другим, но мы никогда не можем заметить между ними связи; они, по-видимому, соединены, но никогда не бывают связаны друг с другом. А так как у нас не может быть идеи о чем-либо, чего мы никогда не воспринимали внешними чувствами или же внутренним чувством, то необходимо, по-видимому, прийти к тому заключению, что у нас совсем нет идеи связи, или силы, и эти слова совершенно лишены значения независимо от того, употребляются ли они в философских рассуждениях или же в обыденной жизни»[2].
4. «После [наблюдения] постоянного соединения двух объектов, например тепла и огня, веса и плотности, только привычка заставляет нас ожидать одного из них при появлении другого. Это, по-видимому, даже единственная гипотеза, с помощью которой можно прояснить затрудняющий нас вопрос: почему мы выводим из тысячи примеров заключение, которое не в состоянии вывести из одного примера, ничем не отличающегося от остальных? Разум не способен к подобному варьированию; выводы, которые он делает при рассмотрении одного круга, одинаковы с теми, которые он получил бы, исследовав все круги во вселенной. Но ни один человек, видевший только однажды, что тело движется, получив толчок от другого тела, не мог бы заключить, что всякое тело придет в движение после подобного толчка. Поэтому все заключения из опыта суть следствия привычки, а не рассуждения»[3].
5. Для порядка еще раз сформулирую основные пункты, составляющие проблему индукции (ПИ) в редакции Юма. Проблема Юма распадается на три пункта: 1. Из одного примера соединения нельзя вывести связи между явлениями, иначе говоря A1 может быть только соединено с B1, но не может быть с ним связано. 2. Из множества повторяющихся примеров соединений нельзя вывести связи между соединяющимися явлениями, ведь каждое новое соединение, при всей его возможной похожести на другие, остается одним-единственным изолированным соединением, которое, как мы уже условились, не дает идеи связи. Однако, множество постоянно повторяющихся соединений формирует привычку, на основе которой мы полагаем объекты (явления) связанными, а не соединенными. Иначе говоря, если за А1 следует В1, за А2 следует В2, за А3 следует В3, … за А1000 следует В1000, то за А1001 скорее всего последует В1001. 3. Сколь много постоянно повторяющихся соединений мы бы ни видели, мы никогда не можем быть уверены в том, что следующее соединение будет таким же, какими были предыдущие. Иначе говоря, прошлый опыт бесполезен для будущего, и за А1001 В1001 может и не последовать или, говоря чуть точнее, мы не в состоянии привести аргумент, гарантирующий следование В1001 за А1001.
6. Из истинности первого пункта с необходимостью следует истинность второго и третьего. Следовательно, чтобы опровергнуть выстроенную Юмом цепочку, следует опровергнуть именно первый пункт. Приступим к опровержению.
7. Представьте себе бесконечный ряд ведер, насколько мы можем видеть, заполненных водой. Мы видим, что первое ведро заполнено водой, мы видим, что второе ведро заполнено водой, третье, четвертое, сотое и даже тысячное, и, сколько мы ни всматриваемся вдаль, нам кажется, что все ведра полны воды и что среди них нет ни одного пустого ведра. В этом примере ведра соединены с водой, а постоянство их соединения порождает ожидание, что они соединены всегда. Вопрос: можем ли мы быть уверены в том, что в бесконечном ряду ведер так и не окажется пустого ведра или даже, например, в том, что пустых ведер на каком-то этапе подсчета не окажется больше, чем заполненных? Ответ на оба вопроса, разумеется, отрицательный. Ни в чем таком мы не можем быть уверены. Как бы много полных ведер мы ни видели, следующее ведро может оказаться и пустым, а может оказаться и так, что на определенном этапе вместо неизменно полных ведер мы будем видеть неизменно пустые ведра, либо что они пойдут вперемешку и за каждым полным будет следовать пустое. Это и есть проблема индукции – как бы много повторений в соединении фактов мы ни наблюдали, мы не можем считать, что соединенные факты связаны друг с другом. Достоверны лишь сами факты, не являющиеся на деле следствиями никаких определенных причин, и каждый следующий факт может опровергнуть сколь угодно длинную цепочку предыдущих фактов, которые, как нам казалось, откуда-то следовали (с единообразием).
8. А теперь представьте себе все тот же самый бесконечный ряд ведер, но только на этот раз пусть они будут пустыми. Представим себе и человека, который подходит и заполняет водой первое ведро, потом – второе, третье, сотое и даже, хотя это и стоит ему немалого труда, тысячное. Вопрос: может ли этот человек быть уверен в том, что каждое вновь наполняемое им водой ведро окажется полным? Вопрос может показаться странным, но ответ на него, разумеется, положительный. Человек может быть уверен в том, что миллион первое наполненное им водой ведро окажется таким же полным водой ведром, как и первое, и для этого ему вовсе не требуется наполнять водой весь миллион ведер. Достаточно наполнить лишь несколько ведер, чтобы все в этом плане стало понятно. Но что произошло? Почему нам кажется странным сам вопрос о наполненности водой сколь угодно большого числа ведер, и почему мы не сомневаемся, что не может быть исключения из наблюдаемой лишь фактически каждый раз новой единичной наполненности? Как и в первом случае мы видим соединение ведра с водой. Почему же каждое новое ведро должно оказываться заполненным с необходимостью? По одной единственной причине – мы просто связали факт наполненного ведра как следствие процесса заполнения ведра водой с причиной наполнения ведра – самим процессом его наполнения. Пустое ведро – начальное состояние объекта, полное ведро – конечное состояние (или следствие наполнения водой), наполнение ведра водой – причина последующей полноты ведра.
9. Почему ведро полное? – потому что кто-то его заполнил. Что при заполнении ведра водой оно будет наполняться всегда – тезис, уже не требующий опытно-каждо-ведерного доказательства. Вместе с тем, проблема индукции прямо подразумевает, что завтра вы подойдете к ведру, начнете заполнять его водой, но оно, возможно, не будет заполняться. Ведь то, что оно заполнялось до этого случая не может гарантировать того, что оно будет заполняться сейчас; то, что ведро заполнялось вчера не может гарантировать, что оно будет заполняться сегодня и тем более завтра; то, что заполнилась тысяча ведер не может гарантировать, что заполнится и тысяча первое. Ан, нет, может. Почему? Потому что указана причина заполнения. Ведро, в которое льют воду, наполнялось водой вчера, наполняется водой сегодня и будет наполняться водой и завтра, и во веки веков. Аминь.
10. Во избежание путаницы четче определимся с терминами:
Соединение – предполагаемое единство двух фактов (или двух состояний объекта, или объекта с каким-то его состоянием), выводимое из постоянно видимого нами следования одного факта за другим (одного состояния за другим). Например, мы видим, что с приближением зимы птицы летят на юг. Можно предположить, что это не случайно. Или мы видим только белых лебедей и предполагаем, что все лебеди — белые.
Связь – опосредованно удостоверяемое единство двух фактов (или двух состояний объекта, или объекта с каким-то его состоянием), выводимое из указания на третий факт, как на причину следования второго факта (состояния). Например, поняв, что зимой птицам холодно и голодно, мы тем самым вклиниваем факт-причину между фактами приближения зимы и отлета птиц на юг, тем самым связывая их. Или, узнав, что белая окраска зависит от такого-то пигмента, мы связываем цвет лебедей с наличием этого пигмента и говорим, что все лебеди с таким-то пигментом – белые.
Причина – связующе-объяснительное звено-факт, указывающее на то, почему за фактом номер один следует факт номер два (почему одно состояние объекта меняется на другое, или почему объекту присуще такое-то состояние). Или попросту объяснение, почему за фактом номер один следует факт номер два. Когда мы спрашиваем «почему за фактом номер один следует факт номер два?» мы должны привести какой-то факт номер три, отвечающий на заданный вопрос. Если мы видим, как нечто следует за или с чем-то, то этого никогда не бывает достаточно для объяснения, и мы должны найти третий факт, из которого следует нечто.
11. Юм совершенно прав, когда утверждает, что из сколь угодно часто наблюдаемого соединения двух фактов невозможно вывести их связь. Но ее и надо искать не в повторении соединения, ее надо искать непосредственно в соединении. Повторение тоже играет свою немаловажную роль – лишь повторяющееся соединение побуждает человека искать связь. Но после того, как она найдена (если найдена), повторение уже не играет ни малейшей роли и становится естественным следствием выявленной связи. Если мы знаем почему происходит соединение, то его повторение (при определенных условиях) неизбежно. Если мы не знаем почему происходит соединение, то единственной его причиной и можно считать повторение.
12. «Почему мы выводим из тысячи примеров заключение, которое не в состоянии вывести из одного примера, ничем не отличающегося от остальных?», — спрашивает Юм. Отвечаю: потому что заключение выводится вовсе не из тысячи примеров соединений, а из установленной связи в самом соединении.
Слова Юма «Два суждения: Я заметил, что такой-то объект всегда сопровождался таким-то действием и Я предвижу, что другие объекты, похожие по виду на первый, будут сопровождаться сходными действиями» теперь пере-формулируются в виде: «Я знаю, почему такой-то объект сопровождается таким-то действием, и поэтому я уверен, что, при соблюдении определенных условий (обуславливающих связь), он и будет сопровождаться этими же действиями».
«Связь между данными суждениями не интуитивная: здесь требуется посредствующий член, дающий нам возможность сделать такой вывод, если только этот вывод вообще можно получить путем рассуждения и аргументации», — говорит Юм. Нет, посредствующий член, хотя и находится с помощью ума, но сам по себе не является умозаключением – умозаключением является вся причинно-следственная цепочка, сама же причина – нечто столь же наглядно-данное нам в опыте, как и то, что она связывает.
13. Что было установлено предыдущими рассуждениями, так это принципиальная разница между обобщением на основе повторения и объяснением (обобщением на основе объяснения).
Формула повторительного обобщения: повторение в наблюдении следования одного состояния объекта за другим (с другим) порождает бездоказательное ожидание, что это следование происходит по какой-то причине.
Формула объяснения: одно и то же воздействие, оказываемое (в одних и тех же условиях) на один и тот же объект, порождает один и тот же результат. Возможная редакция: Причинение одного и того же одному и тому же в одних и тех же условиях приводит к одному и тому же результату. Еще одна возможная редакция: открытие причины, по которой происходит следование одного состояния за другим порождает доказательную уверенность, что одно состояние всегда будет следовать за другим.
14. Для более четкого различения следует привести начало двух цепочек, а именно первые два повторительно-обобщающих соединения и первые две объяснительных причинно-следственных цепочки.
Обобщающие соединения: За А1 следует В1; за А2 следует В2.
Причинно-следственные цепочки: За А1 по причине С следует B1; за А2 по причине С следует B2.
Прежде всего следует понять, что А1 в этих примерах отличается от А2 только порядком следования, а не по существу, то есть мы не говорим (как это нередко делает Юм), что А2 похоже на А1, — нет, подразумевается, что это все время одно и то же А — то же касается и B1, и В2 и какого угодно В, остающегося во всех примерах одним и тем же В, но получаемым в порядке наблюдения новых и новых случаев соединения.
Что же мы видим? В случае повторения результата, мы видим два одинаковых соединения. В случае объяснения – мы видим проявление одной и той же связи. Цепочка повторений уходит в эмпирическую бесконечность. Причинная цепочка замыкается в одном единственном соединении. Без конца повторять: за А по причине С следует B, за А по причине С следует B, за А по причине С следует B, не имеет ни малейшего смысла. Если B следует, то оно и будет следовать, поскольку в каждой новой цепочке ничего не меняется, то есть А остается А, а С – С (а мы условились, что это так). Если же А и B соединены, то каждое их новое соединение нуждается в подтверждении. В самом деле, почему за А1001 должно следовать B1001? Без опосредующей А и В причины, как верно заметил Юм, на этот вопрос ответить невозможно. Но зато и при указании причины нет смысла повторять соединения.
15. Объяснение (указание на причину) – это пластинка, каждый раз воспроизводящая одну и ту же записанную на ней мелодию. Повторение – это новая пластинка, проигрывающая одну и ту же мелодию. Чтобы удостовериться, та же эта мелодия или нет, мы должны проигрывать каждую новую пластинку. Но удостоверяться в том, что на одной пластинке записана искомая мелодия нет ни малейшей надобности. Прослушаем мы пластинку один раз или тысячу – мелодия все та же, и будет оставаться все той же.
16. Итак, теперь мы можем выстроить различные обобщающие цепочки в их адекватном полном виде:
Обобщение на основе повторения: За А1 следует В1, за А2 следует В2, за А3 следует В3, … за А1000 следует В1000, следовательно, за А1001 скорее всего последует В1001.
Объяснение: За А по причине С следует B. Или: если за А1 по причине С следует B1, то за А1001 по причине С совершенно точно последует В1001.
17. Скептики, конечно, скажут, что в реальности А1 или никогда, или, как минимум, часто не совпадает с А2 (не является его полной копией), то есть они различаются не только по порядку, но и по существу – почему Юм постоянно и говорит о сходных, а не об одинаковых объектах. Допустим, однако, что эти объекты одинаковы. Останется ли в таком случае проблема Юма проблемой Юма, то есть можно ли будет делать выводы относительно будущего, основываясь на прошлых повторениях? Разумеется, проблема Юма останется; разумеется, выводов о будущем сделать будет нельзя — независимо от того, имеются в виду одинаковые или сходные объекты. В самом деле, если мы представим себе, что все ведра абсолютно одинаковы, то что это поменяло бы в выше приводимом примере – если бы мы посчитали их всего лишь сходными? Ничего. Следовательно, если мы решаем проблему Юма, то есть находим способ предсказать будущее через объяснение связи между объектами (состояниями объекта), то подразумеваемая в объяснении одинаковость объектов не может служить аргументом против такого решения.
18. Если же скептики не успокоятся и будут продолжать говорить, что на практике все равно А1 с А2 не совпадает (могут не совпадать), то мы должны заметить, что в объяснении соединяются не конкретное ведро (ведро A1) с конкретной водой (полное ведро В1), а ведро вообще (А) с водой вообще (полное ведро В). Одно эмпирическое ведро (или ведро А1) всегда отличается от другого эмпирического ведра (А2). Одно ведро вообще (А) – означает попросту любое ведро (А1, А2 или А1001). Мысленно прокрутив в уме картинку «ведро заполняется водой», мы автоматически переносим ее на все эмпирические ведра и воды. Не в силу привычки, как утверждает Юм, а в силу того, что все мыслимые ведра в нашем уме неоспоримо связаны с водой (при указании на фактическую причину наполнения одного-единственного эмпирического ведра). Объяснив, мы объясняем, почему нечто вообще происходит. При этом я надеюсь, что у нас не возникает хотя бы вопроса о том, почему ведро вообще (или ведро А) может служить адекватным представителем каждого конкретного ведра – хотя, в принципе скептики склонны к полной атомизации действительности, и их, очевидно, может не устроить ситуация, при которой разные емкости получают одно наименование. Но это уже какая-то другая проблема, не имеющая отношения собственно к проблеме индукции.
19. Итак, указание на причину меняет значение слова «одно», превращая его из эмпирического (одно конкретное) в абстрактное (одно вообще). Связать наполнение конкретного эмпирического ведра с конкретной эмпирической водой, значит, превратить одно эмпирическое ведро (ведро А1) в ведро вообще (ведро А). Объяснение — переход от эмпирической к теоретической истинности; шаг, неподъемный для эмпирика и неизбежный для теоретика. Правомерность же такого шага должна оправдать практика или тот самый опыт, к которому естественным образом апеллирует всякая наука. Что ж, опыт несомненно подтверждает, что объяснения работают. Не без проблем, но работают. Но ведь не без проблем? Но ведь работают! С какими бы проблемами мы ни сталкивались при объяснении реальности, важно указать, что есть принципиально иной путь построения общих положений, и что Юм категорически не прав, утверждая, что такого пути нет. Есть путь обобщения на основе повторения, а есть путь объяснения. Повторительное обобщение не предполагает никакого вывода относительно последующих событий; объяснение совершенно равнодушно к фактору времени и будущие соединения для него абсолютно равноправны с настоящими или прошлыми.
20. Обобщение на основе повторения никогда ничего не объясняет, оно лишь подталкивает к поиску объяснения в повторении соединений. Если учитель каждый год видит в своем новом классе рыжего ученика, который успевает хуже других, то по истечении десяти лет он вполне может прийти к выводу, что рыжие вообще менее способны, и когда на одиннадцатый год у него в классе вновь появится рыжий ученик, он вполне может сказать: «Этот ученик будет успевать хуже других». «Почему?», — удивленно спросите вы. «Потому что он рыжий», — ответит вам учитель. Здесь мы видим, как абсурдно всякое обобщение на основе повторения, когда оно пытается принять форму объяснения. «Все рыжие ученики, которых я видел до сих пор, плохо успевали», — вот единственно-адекватная форма обобщения, подталкивающая к попытке объяснения этого явления, которое, в свою очередь, чтобы стать объяснением, обязано выйти из круга повторения и указать на причину неуспеваемости. Попытавшись же связать цвет волос с успеваемостью, любой добросовестный исследователь очень быстро придет к выводу о том, насколько это абсурдная затея, и что одно никак не связано с другим.
21. Как рассуждает скептик: мы видим соединение двух фактов, а затем, видя постоянное повторение этого соединения, мы приобретаем иллюзорную идею связи между ними.
Как рассуждает знаток: мы видим соединение двух фактов, а затем, видя постоянное повторение этого соединения, мы предполагаем связь между ними (третий факт-причину, связующий два соединившихся факта), которую и должны установить. Из самого повторения соединения ясная идея связи никоим образом не образуется. Более того, — после того, как повторение наводит нас на мысль о возможности связи, оно более не принимается в расчет, в расчет идет лишь природа соединения между двумя фактами (состояниями объекта). Повторение должно стать следствием выявленной связи, а не его причиной.
22. Еще раз повторю: опосредующее звено, которое ищет и не находит Юм, находится не между повторяющимися соединениями фактов, а между соединяемыми фактами, и называется это опосредующее звено причиной, по которой один факт следует из другого. Установили причину, установили связь. Не установили причины, значит, нет ничего кроме соединения. Причинно-следственная связь потому и называется связью, что связывает.
23. Но неужели Юм не знал о существовании причинно-следственной связи? Это было бы странно. Но, конечно, Юм все знал. Более того, он весьма много говорил о причинно-следственной связи, отдавая ей (на словах) должное. Но пусть опять скажет сам Юм:
«Несомненно, что если между объектами существует какое-нибудь отношение, которое нам важно знать в совершенстве, то это отношение причины и действия. На нем основаны все наши заключения относительно фактов или существования. Только благодаря ему достигаем мы уверенности в существовании объектов, находящихся за пределами наличного свидетельства нашей памяти и наших чувств. Единственная непосредственная польза всех наук состоит в том, что они обучают нас управлять будущими явлениями и регулировать их с помощью их причин. В силу этого наши мысли и изыскания все время вращаются вокруг отношения причинности. Но идеи, которые мы составляем о нем, так несовершенны, что нельзя дать точное определение причины ― можно лишь позаимствовать его из того, что является внешним по отношению к причине и чуждым ей»[4].
24. «Обладающие сходством объекты всегда соединяются со сходными же ― это мы знаем из опыта; сообразуясь с последним, мы можем определить причину как объект, за которым следует другой объект, причем все объекты, похожие на первый, сопровождаются объектами, похожими на второй. Иными словами, если бы не было первого объекта, то никогда не существовало бы и второго. Появление причины всегда переносит наш ум в силу привычного перехода к идее действия ― это мы тоже знаем из опыта. Стало быть, сообразуясь с опытом, мы можем дать другое определение причины и назвать ее объектом, который сопровождается другим объектом и появление которого всегда переносит мысль к этому последнему. Хотя оба данных определения выведены из обстоятельств, чуждых причине, мы не можем устранить это неудобство или достигнуть более совершенного определения, способного указать ту черту причины, которая связывает ее с действием. У нас нет идеи этой связи, нет даже ясного понятия о том, что мы желаем знать, когда стремимся представить себе такую связь»[5].
25. «Итак, наша идея необходимости и причинности порождается исключительно единообразием, замечаемым в действиях природы, где сходные объекты всегда соединены друг с другом, а ум наш побуждается привычкой к тому, чтобы заключать об одном из них при появлении другого. Эти два условия исчерпывают собой ту необходимость, которую мы приписываем материи. Помимо постоянного соединения сходных объектов и следующего за этим заключения от одного из них к другому у нас нет иной идеи необходимости, или связи»[6].
26. Проблема Юма в понимании причинно-следственной связи состоит в том, что он (и не он один) полагает, что связь между фактами выстраивается по формуле: один факт является причиной, а другой – следствием. Здесь есть чисто психологическая, а отчасти еще и лингвистическая проблема, связанная со словосочетанием «причинно-следственная связь» – видя (или подразумевая) связь между двумя фактами, мы чисто автоматически склонны называть один из фактов причиной, а другой следствием. Но если в отношении второго утверждения мы правы (факт номер два является следствием), то в отношении первого – заблуждаемся (факт номер один не является причиной). Причиной является не факт номер один, а некий опосредующий факт номер три, или объяснение, почему за фактом номер один следует факт номер два. Следование одного факта за другим никогда не может прочно связать один факт с другим. А опосредующий факт-причина – может. Объяснение же и есть не что иное, как выявление трехкомпонентной причинно-следственной связи. Трех, а не двухкомпонентной.
27. Здесь, впрочем, есть нюансы, требующие особого внимания. Представим себе бегущего человека. Процесс бега порождает усталость. «Я долго бегу, я устал». Что здесь является причиной, а что следствием? Очевидно, что бег – причина, усталость – следствие, а человек – объект, чье состояние и меняется от нормального к усталому через опосредующую причину изменения – бег. Но можем ли мы утверждать, что объяснили возникшую усталость через беговую причину, или мы просто можем сказать, что усталость всякий раз возникает после бега и, таким образом, снова оказаться в сетях скептицизма? Это довольно сложный вопрос. В принципе, усталость непосредственно регистрируется организмом как следствие бега, и в этом смысле нам вовсе не требуется раз за разом уставать, чтобы связать усталость и бег, но мы довольно быстро можем убедиться в том, что усталость будет следовать из бега всегда (усталость всегда будет следовать из определенного уровня физической нагрузки, или нагрузка вообще порождает усталость вообще). Сказать, что усталость следует «за» бегом, все равно что сказать – «я пробежал три километра, после чего устал». Это смешно, но именно так хотели бы представить ситуацию скептики. С другой стороны, смешно это или не смешно, но скептики имеют некоторые основания посчитать предположение «бег вызывает усталость» двухкомпонентной причинно-следственной цепочкой, где усталость соединена с бегом, а связь мы выдумываем, видя повторения соединения усталости и бега.
28. Однако, возможен и другой путь объяснения усталости. Со строго научной точки зрения объяснение «бег порождает усталость» не является достаточным, но мы еще должны показать, почему бег порождает усталость, то есть дать научное описание физиологических изменений, происходящих в организме, когда он получает физическую нагрузку. Но тогда получается, что причинно-следственная цепочка удлинилась, и что сам бег, бывший в первом случае фактом-причиной, то есть объясняющим фактом номер три, теперь превратился в факт номер один, усталость осталась фактом номер два, а опосредующим фактом номер три (или причиной усталости) становятся физиологические изменения, происходящие в организме, когда он получает нагрузку. Но это иллюзорное удлинение – причина всегда остается опосредующим фактом номер три. Есть человек, есть усталость человека и есть причина, вызывающая усталость. Назовем мы эту причину просто бегом, или, перейдя на научный уровень, опишем бег как физиологический процесс, причинно-следственная цепочка как состояла, так и будет состоять из трех элементов – двух связываемых (человек и усталость) и одним связывающим (бег в любой форме описания). Но зачем тогда нужно научное описание? Для того, чтобы окончательно опровергнуть скептиков. Указание на причины, даваемые на обыденном языке, как правило позволяют скептику превратить указываемую причину из опосредующего объяснительного звена (или «факта номер три») в «факт номер один», за которым необъяснимым образом следует «факт номер два» (усталость, следующая за бегом). Дополнительное же объяснение, или ответ на вопрос «почему бег порождает усталость?», лишает скептика такой возможности, замещая обыденный бег научно описанным физиологическим процессом. При этом именно скептики, или, точнее, сидящий внутри каждого мыслящего человека скептик, побуждает нас переходить от обыденных объяснений к научным, за что скептицизм заслуживает безусловной благодарности. «Обыденные объяснения слишком поверхностны и не вполне точны даже когда они истинны, а часто они создают лишь видимость истинности; чтобы найти причину, надо копать глубже» – подзуживает внутренний скептик, побуждая ученого проникнуть в самую суть природных явлений. Правда, что касается внешних скептиков, то научные объяснения устраивают их ничуть не больше обыденных, но это уже следствие общей скептической установки.
29. И опять необходимо уточнить определения. Обычно причина определяется как явление, обусловливающее возникновение другого явления. Это очень удобное для скептиков определение, поскольку получается, что «за тем-то следует то-то» и, следовательно, само понятие причинности размывается, а остается лишь соединение фактов (соединение объекта с каким-то его состоянием). На самом деле причина – это либо явление, обусловливающее определенное состояние объекта; либо явление, обусловливающее переход объекта из одного состояния в другое. Причина – всегда посредник, но об этом уже было сказано достаточно. Когда мы говорим, что два факта (два состояния объекта) связаны друг с другом, мы вклиниваем между ними причину их связи.
30. «Хлеб, который я ел раньше, насыщал меня; другими словами, тело, обладающее известными чувственными качествами, обладало в то время и некоторыми скрытыми силами, ― но следует ли отсюда, что другой хлеб точно так же должен насыщать меня в другое время и что сходные чувственные качества должны быть всегда связаны со сходными скрытыми силами? Вывод этот, по-видимому, вовсе не является необходимым»[7].
31. Сам Юм, как мы видим, в общем, понимает, где скрывается искомое им опосредующее звено (или причина связи), называя его «скрытыми силами». Если мы откроем, почему именно хлеб насыщает, то человек и насыщение перестанут быть соединяемыми и станут связанными. Впрочем, здесь возникает та же дилемма, что и ранее в примере с бегом. В принципе, человек вполне способен связать насыщение организма и хлеб и не зная химического состава хлеба, таким образом, фраза «хлеб вообще насыщает человека» указывает на хлеб как на причину насыщения и без научного ответа на вопрос о том, почему это происходит. Но ненаучные ответы не устраивают человека, и превращение хлеба из насыщающей причины в объект, насыщающую способность которого, в свою очередь, еще нужно объяснить, является вполне обоснованным. Да, хлеб насыщает, но почему он насыщает? Ответ все еще скрыт от нас. Но когда мы указываем (как на факт), что те или иные чувственные качества хлеба производят в организме человека те или иные изменения, то мы уже не можем считать насыщение таинственным образом следующим за поеданием хлеба. Нет, мы прочно связываем хлеб и насыщение человека. Конечно, и открытие «скрытых сил» скорее всего не поколебало бы Юма и, если бы ему сказали, что хлеб насыщает, потому что содержит такие-то и такие-то вещества, то Юм попросту бы ответил, что ему непонятно, почему вещества, которые насыщают меня сегодня, будут насыщать меня и завтра. Но здесь вполне законное требование уточняющей научной наглядности подменяется другим требованием, совершенно незаконным, о чем будет сказано чуть ниже.
32. Скептик: хлеб насыщал меня вчера и позавчера, поэтому он, скорее всего, насытит меня и сегодня, и завтра.
Крестьянин: человек насыщается, потому что поел хлеба, а хлеб вообще насыщает человека.
Знаток: хлеб вообще насыщает, потому что в нем содержатся такие-то полезные для организма человека вещества.
33. Важное замечание – указание знатока содержит условие как для повторения насыщения, так и для отсутствия этого повторения, — при сохранении внешнего сходства двух соединений человека и хлеба. Но и самый обыденный разум, ничего не зная о скрытых от него насыщающих качествах хлеба, тем не менее способен уразуметь, что хлеб с различного рода недовложениями потеряет в питательности. Но что это и значит, как не то, что питательность хлеба связана, а не соединена с хлебом? Положили в хлеб что требуется, получили питательный хлеб; не положили – не получили. Питательность не произрастает из буханки хлеба как нечто таинственно с ним соединенное – питательность рождается из определенного состава хлеба, обеспечивающего его питательность. И более научное указание знатока, что «хлеб насыщает, потому что в нем содержатся такие-то полезные для организма человека вещества» подразумевает, что если хлеб не будет содержать этих веществ, то он может и не насыщать едока, или насыщать значительно хуже. А вот предположение скептика ничего такого не подразумевает. Скептик видит хлеб и предполагает почти гарантированное насыщение независимо от качества хлеба (раз до этого хлеб всегда его насыщал). Знаток знает от чего зависит насыщение и поэтому не может быть уверен в том, что этот конкретный хлеб насытит его должным образом. В этом отношении именно знаток оказывается реалистичным скептиком, тогда как скептик – витающим в облаках супер-оптимистом. Этот же пример нагляднейшим образом демонстрирует отличие связи от соединения. Прекращение повторения разрушает необходимость соединения, но не обязательно разрушает необходимость связи. Так мы еще раз убеждаемся в том, что идея связи рождается не в повторении соединения, но в самом соединении.
34. Здесь, конечно, опять уместно слегка удивиться – ну неужели Юм не понимал, что соединение и связь столь явственно различаются? Но дело в том, что всякий человек, как ему кажется, что-то открывший, всеми силами держится за свое открытие, — против всякой очевидности повторяя свой основной тезис. Так и Юм, придя к вполне справедливому тезису, что повторение соединений не дает связи, пришел и к выводу, что связи и вообще не может быть (что человек выдумывает ее, привыкая к повторениям), а есть лишь соединенные факты, — хотя он и сам приводит как минимум один пример, явно противоречащий его утверждению. Сейчас вы сами в этом убедитесь.
35. «Толпа, привыкшая судить о вещах по тому, какими они представляются с первого взгляда, приписывает неустойчивость явлений такой же неустойчивости в причинах, из-за которой последние часто не оказывают своего обычного влияния, хотя их действие и не встречает препятствий. Но философы, замечая, что почти во всех областях природы существует большое разнообразие сил и начал, скрытых от нас по своей малости или отдаленности, по крайней мере считают возможным, что противоречие в явлениях происходит не вследствие случайности причины, а вследствие скрытой деятельности противоположных причин. Эта возможность превращается в достоверность при дальнейшем наблюдении, когда после тщательного исследования замечают, что противоречие в действиях всегда свидетельствует о противоречии в причинах и вызывается взаимным противодействием последних. Крестьянин для объяснения того, что стенные или карманные часы остановились, сумеет сказать только, что они обычно не ходят правильно; часовщик же тотчас сообразит, что одинаковая сила в пружине или маятнике всегда оказывает одинаковое влияние на колеса, а в данном случае она не производит своего обычного действия, может быть, из-за пылинки, останавливающей все движение»[8].
36. Итак, у нас есть часы, которые долго шли себе своим нормальным ходом, а потом вдруг остановились. У нас есть часовщик, выявивший причину этой остановки – ею стала пылинка. Часы снова идут. А что еще надо? Собственно, сам Юм употребляет ключевое слово – объяснение. Объяснить ход часов и указать на причину, почему они идут или не идут – это ведь одно и то же. Соединение часов с правильным показом времени не подразумевает никакого объяснения, почему они идут правильно. Шли правильно раньше, идут правильно сейчас, значит, скорее всего, будут идти правильно и в будущем. Это все, что можно вывести из соединения часов и показа ими правильного времени. Указание же на причину правильного хода часов и их возможной остановки вследствие разных причин (например, пылинки) – это прямое опровержение скептицизма, это недвусмысленное связывание часов и их хода. Именно что, получив объяснение хода часов, мы видим ситуацию совершенно по-новому. Мы знаем, почему часы идут, и, соответственно, мы знаем, почему они могут остановиться. Юм говорит, что нельзя указать на причину, и сам же приводит ясный пример возможности указания на причину. Можем мы или не можем назвать пылинку причиной остановки часов? Ответ очевиден – можем. Часовщик неизбежно увязывает правильный ход часов с исправностью часового механизма, то есть открывая скрытую (по Юму) силу, двигающую часовую стрелку. Юм же все видит, вроде бы все и понимает, но это вовсе не мешает ему не признавать причин-объяснений. Он продолжает говорить, что связь – выдумка, порожденная повторением соединений. Очевидно, он полагает, что повторение этого тезиса придаст ему веса и люди, привыкнув к нему, посчитают его истинным.
37. Приведу еще один пример связи – столь разительный, что он не сразит наповал только законченного скептика. Постоянное воспроизведение одного и того же текста во всех новых изданиях книги с очевидностью не может быть представлено в виде необъяснимого, но постоянно повторяющегося соединения двух фактов. Если я читаю «Анну Каренину» и вижу, что этот роман начинается со слов: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», то я имею все основания ожидать, что любое издание «Анны Карениной» будет начинаться именно с этих знаменитых слов. Если же «Анна Каренина» входит в число моих любимых книг, то я не просто вижу, а точно знаю, что она начинается со слов: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», и мне вовсе не нужно проверять каждую издаваемую «Анну», чтобы убедиться в этом. «Да, — воскликнет скептик, — но вдруг наборщик ошибется, и книга начнется с других, не менее известных слов: «Все смешалось в доме Облонских». Но именно тут скептик и поставит сам себе подножку, в результате которой рискует сломать себе шею. Ведь в этом случае соединение между книгой и текстом будет нарушено, а вот нерасторжимая связь останется. Да, соединение начальной фразы «Анны Карениной» с каждой новой печатаемой «Анной» вовсе не является чем-то строго необходимым, — наборщик может ошибиться, а редактор может просмотреть ошибку, и в итоге свет увидит «Анна Каренина» без первой фразы. Что же это доказывает? Это и доказывает, что связь есть нечто отличное от дающегося через повторение соединения, и что она (связь) при этом есть нечто действительное. Мы точно знаем, что отсутствующая фраза все равно присутствует в «Анне Карениной» (нерасторжимо связана с ней), хотя в конкретном издании мы ее и не видим. Повторения нет, а связь остается. Вот так вот, господа скептики.
38. До сих пор я приводил аргументы, которые, несмотря на всю их убедительность, никогда не могли бы поколебать истинного скептика (в силу самой его скептической установки). Теперь, однако, я приведу аргумент, который может смутить и скептика, — скорее всего ненадолго, но все-таки может. Из пространства объяснений, то есть связывания фактов, вторгнемся в пространство самого факта. Что такое факт? Факт – единица опытной достоверности, или событие, в достоверности которого у нас не может быть никаких сомнений. Я вижу идущего человека и говорю: «Идет человек, это факт»; вот человек присел на скамейку, и я говорю: «Человек сидит на скамейке, это факт». Я смотрю матч и говорю: «Играют такие-то команды, это факт». Такой-то игрок забил гол, я говорю: «Факт, что такой-то игрок забил гол». Факты образуют ткань опыта, отрицая факты, мы отрицаем сам опыт. Но эмпирики, разумеется, и не отрицают факты, они лишь говорят, что за констатацией фактов следуют сплошные фантазии об их связи, тогда как в реальности мы не видим ничего, кроме их соединения. Но давайте проанализируем выводимое непосредственно из опыта фактическое суждение «Человек сидит на скамейке». Вроде бы мы указали на предельно изолированный факт, однако в этой изолированности сосуществуют и человек, и процесс сидения, да еще и скамейка. Хуже того, мы видим, что человек в этом суждении намертво связан со скамейкой, ведь для того, чтобы факт его сидения на скамейке оставался фактом, эта связь должна мыслиться как совершенно нерасторжимая. Нет сидения на скамейке, нет и факта сидения; нет никакой возможности отсоединить сидение человека от скамейки без уничтожения факта его на ней сидения. Наконец, что ужаснее всего для скептика, выявленная связь вообще никак не связана ни с каким повторением, поскольку мы имеем дело с фиксацией единичного события.
39. Итог: 1. Всякий факт представляет собой констатацию связи между двумя (как минимум) объектами. 2. Связь, обнаруживаемая во всяком факте, по определению носит необходимый характер (ведь только необходимость связи и превращает факт в факт). Таким образом, признание фактов, как утверждений об объектах, с необходимостью ведет и к признанию понятия нерасторжимой связи между объектами внутри самого факта.
40. Полная форма констатации любого факта подразумевает установление нерасторжимой связи объекта с двумя сопутствующими ему обстоятельствами (времени и места), как минимум, c одним состоянием объекта и еще, как минимум, c одним внешним по отношению к нему объектом. Так, говоря: «Человек сидит», мы фиксируем человека как объект, далее мы фиксируем сидение как определенное действие объекта, но этим дело далеко не исчерпывается, и далее мы еще фиксируем и время, в которое он это делает (он сидит сейчас) а также и место, где он сидит (обстоятельство места). Ну и наконец-то, мы фиксируем то, на чем он сидит, то есть связываем один объект с другим объектом. Вот сколько всякого рода взаимосвязей подразумевает один-единственный изолированный факт.
41. Далее, конечно, можно задаться вопросом: любой ли факт приводим к «полной форме констатации»? Предварительно, видится, что любой. Даже когда факт всего лишь констатирует наличие определенного качества у человека, например, когда мы говорим, что «Его рост – 186 см», то в полной форме это суждение означает: «При последнем измерении его роста (здесь фиксируется связь измеряемого с другим объектом – измерительным прибором), имевшему место там-то и тогда-то, его рост оказался равным 186 см». Но в настоящее время нас, в общем, не так сильно интересует вопрос о приводимости любого (или не любого) факта к полной форме констатации – нам вполне достаточно определиться с тем, что всякий факт есть нечто изнутри связанное, а это не подлежит ни малейшему сомнению.
42. Да, я действительно надеюсь, что путешествие внутрь факта на какое-то время смутит скептика. Но, конечно, он довольно быстро придет в себя и скажет: «Но ведь эта внутренняя связь никоим образом не может быть переброшена вовне, и то, что изнутри связывает факт, не обязано связывать также и факты». Разумеется, это так, но относительно связи между фактами и так уже было сказано достаточно.
43. Вообще же здесь возникает еще одна чисто психологическая проблема, совершенно непреодолимая для эмпириков, потому что, как я уже упоминал (&19), от эмпирической истины здесь совершается переход к какой-то другой, а именно – к истине теоретической. От истины-факта мы переходим к истине-объяснению. Но эмпирик на то и эмпирик, что он доверяет только фактам. Всякое объяснение для него – отход от истины факта. Сколь бы наглядно-очевидным ни было предложенное объяснение, связывающее факты, для эмпирика решающим аргументом против его безусловного принятия является тезис – «но ведь это не факт». Да, это не факт – это объяснение, но основанное на фактах и только на фактах, — ведь связывающая причина тоже является фактом, хотя и позволяет придать суждению «из А по причине С следует В» общую форму. Итак, мы получаем объяснение, связывающее факты для тех, кто принимает теоретическую истинность, и соединяющее — для всех тех, кто относится к теоретической истине скептически, — а ведь именно сталкиваясь с объяснением фактов эмпирик и превращается в скептика. Но, разумеется, речь здесь категорически не идет всего лишь о разнице в подходах. Если объяснение адекватно (а столь любимый эмпириками опыт однозначно указывает на возможность адекватных объяснений), то эмпирик, не принимающий его, ошибается. Это факт.
44. Эмпирическая истинность – установление непосредственно удостоверяемой связи объекта с каким-то его состоянием или действием. Теоретическая истинность – установление опосредованно объясняемой связи между объектами.
45. Но скептики все еще не сдаются, и слово опять берет Юм, предъявляя, можно сказать, последнюю козырную карту скептицизма.
«Если допустить, что порядок природы может измениться и что прошлое может перестать служить правилом для будущего, то всякий опыт становится бесполезным и не дает повода ни к какому выводу, ни к какому заключению. Поэтому с помощью каких бы то ни было аргументов из опыта доказать это сходство прошлого с будущим невозможно, коль скоро все эти аргументы основаны на предположении такого сходства. Пусть течение событий до сих пор было в высшей степени правильным, но все же одно это без нового аргумента или заключения еще не доказывает того, что оно будет таковым и впредь. Напрасно претендуете вы на то, что изучили природу вещей с помощью прошлого опыта: их тайная природа, а следовательно, все их действия и влияния могут измениться без всякой перемены в их чувственных качествах»[9].
46. Мы должны четко отделять сомнения, которые порождает опыт, от сомнений в самом опыте. Юм не проводит четкой грани между двумя этими типами сомнений, потому что ему выгодно удерживать в рукаве козырную карту сомнения в опыте самом по себе, и, если опыт наглядно продемонстрирует возможность необходимой связи между явлениями, то он преспокойно парирует: «А кто может поручиться, что и эта связь (пусть бы и как необходимая) не действует лишь до настоящего момента, а в следующий момент уже не будет действовать?» Но, извините, Давид Юм, условия задачи подразумевали иное: вы говорили, что именно в опыте (в порядке природы, как мы его наблюдаем) нет и не может быть дано необходимой связи между разрозненными фактами. Так вот, если доказано, что в опыте она есть (может быть дана), а это доказано, то проблема индукции решена. Если скептик сомневается в том, что хлеб может быть назван причиной насыщения человека, то его сомнения законны и побуждают нас к научному ответу на вопрос о том, почему именно хлеб насыщает, но если скептик узнает о насыщающих причинах, но продолжает упорствовать, говоря, что завтра они могут прекратить свое действие – тут его сомнения становятся внеопытно-незаконными.
47. Сомнения в опыте самом по себе лишают смысла вообще любые рассуждения о чем бы то ни было данном в опыте, поскольку, если в следующее мгновение по совершенно неизвестным причинам все может пойти по иному (чего, подчеркну, сам опыт никак не подразумевает), то, конечно, о чем и говорить. В опыте все не может непонятно почему пойти совсем по-другому. Впрочем, ведь только понимание возможности связи между явлениями дает и понимание того, что в природе есть какой-то связный порядок. А в несвязанной реальности возможно все. Выше я говорил: «Факты образуют ткань опыта, отрицая факты, мы отрицаем сам опыт». Но оказывается, что и утверждая одни только факты, мы тоже отрицаем опыт. Раз уж факты никак не связаны, то ткань опыта расползается, рвется. Так что сомнение в опыте в целом, очевидно, является неизбежным следствием эмпиризма, хотя эмпиризм на первый взгляд и кажется самой приземленной из всех научных концепций. Но вдруг оказывается, что последовательно проводимый эмпиризм в итоге порождает фантастику, которую даже трудно назвать научной, — доверие к фактам, но неверие в связь между ними равносильно утверждению всевозможных фактических чудес. Вы можете выйти на улицу и встретить всамделишного живого тираннозавра — да, до сих пор такого не случалось (примерно с того времени, как они вымерли), но вот порядок природы изменился — и вуаля.
48. Кстати, такое доверие при неверии равносильно утверждению прямо-противоположных картин мира: как я уже заметил ранее, эмпиризм подразумевает веру и в то, что необъяснимое повторение некоторых соединений фактов может длиться вечно (раз оно длилось до сих пор) – отказ видеть реальную связь порождает веру в мистичность потенциально вечного соединения; теперь же мы видим, что одновременно эмпиризм подразумевает, что все и в любую секунду может пойти черт его знает как. Эмпиризм навечно соединяет мир неизвестным способом, но эта самая неизвестность грозит вечно-неизменному миру могущим случиться в любой момент мгновенным необъяснимым распадом. Скептик обречен в одно и то же время быть уверенным в том, что длительно-повторяемое будет повторяться и дальше, и бесконечно сомневаться в этом. Скептик обречен в одно и то же время отрицать всякий намек на возможность выхода событий из предписанной им колеи вечного повторения (нет и не было других фактов, а значит и не будет, и не может быть), и утверждать возможность воплощения в физической реальности самого разнузданного полета фантазии (просто появились новые факты – что ж делать, если это факты!). Лишь понимание причинно-следственных связей излечивает от одновременного утверждения обеих этих несуразностей.
49. Впрочем, я несправедлив к скептикам. Сами-то они не верят ни в вечную повторяемость, ни в воплощение разнузданных фантазий. Скептики достаточно умны, чтобы не верить в картину мира, выводящуюся из философии скептицизма. Они предпочитают вообще не иметь никакой картины мира, концентрируя все свое внимание на отдельных фактах. С их точки зрения несуразность получающейся общей картины является достаточным основанием, чтобы и не пытаться ее нарисовать. А что эта несуразность является следствием несуразности тезиса, гласящего, что факты существуют изолированно, – но для такого признания опять-таки требуется признать существование связывающих реальность причин и следствий, а скептики ничего такого не признают. Они признают лишь реальность соединяемых фактов и выдумку связывающих причин. Они не правы.
50. Подведем итоги. Нам следует безусловно согласиться с Юмом, когда он говорит, что повторение в соединении фактов не дает никакого понятия о связи между ними. Нам следует пойти дальше и согласиться с Юмом и в том, что из простого следования одного факта за другим невозможно вывести их связь, то есть невозможно посчитать факт номер один – причиной, а факт номер два – следствием. Наконец, следует согласиться с Юмом и в том, что никакая операция ума не даст нам ясного понятия о связи, если эта связь не дается нам в опыте соединения фактов; таким путем можно лишь выдумать связь, но никак не установить ее. Во всем этом следует согласиться с Юмом, но дальше наши пути резко расходятся, поскольку опыт, опыт, и еще раз опыт указывает на возможность объяснения, почему один факт следует за другим, и это-то объяснение и называется причиной и связывает факты. Объяснить, значит, связать. В опыте. Проблема Юма решена.
[1] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 29). – М.: Мысль, 1996.
[2] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 63). – М.: Мысль, 1996.
[3] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 37). – М.: Мысль, 1996.
[4] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 65). – М.: Мысль, 1996.
[5] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 65). – М.: Мысль, 1996.
[6] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 70). – М.: Мысль, 1996.
[7] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 29). – М.: Мысль, 1996.
[8] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 73-74). – М.: Мысль, 1996.
[9] Давид Юм. «Исследование о человеческом познании» // Сочинения в 2 т. Т.2. (стр. 32). – М.: Мысль, 1996.
| Смысл — это сущностное содержание того или иного выражения языка (знака, слова, предложения, текста). В логико-философской традиции понятие смысла чаще всего идентично понятию значения, однако вместе с тем эти понятия нередко употребляются как различные (см. Язык, Высказывание, Значение). Смысл в его различных аспектах — одно из фундаментальных понятий философской антропологии и гуманитарных наук. В качестве многоаспектного феномена смысл выступает предметом изучения различных теоретических дисциплин: философии, логики, лингвистики, семиотики, психологии, социологии и других. В философии категория смысла впервые [неявно] появляется у Аристотеля как доминирующая во всей его метафизике «мысль о целесообразности природы и всего мирового процесса» (Асмус В. Ф. Метафизика Аристотеля. — В книге: Аристотель. Сочинения, т. 1. — М., 1976, с. 32). Аристотель, по-видимому, одним из первых высказывает мысль о том, что слова связаны с человеческими представлениями, которые, в свою очередь, относятся к вещам или даже вызываются ими: «… то, что в звукосочетаниях — это знаки представлений в душе, а письмена — знаки того, что в звукосочетаниях. Логико-философские размышления стоиков содержали дальнейшее развитие проблематики смысла. Стоики различали помимо обозначающего (языкового выражения) и реальной вещи (объекта обозначения) ещё и обозначаемое в смысле мыслимого или подразумеваемого предмета (см., например: Секст Эмпирик. Сочинения. Т. 2. — М., 1976. С. 329). Он уподоблялся посреднику между вещью, вызывающей представление, и представлением как психической, или ментальной, структурой. Эти соображения стоиков, от которых отправлялся впоследствии и Августин, содержали в себе предвосхищение того, что Г. Фреге много позже назвал «смыслом языкового выражения». Спор об универсалиях в Средние века в основном разворачивался вокруг сформулированной уже в Античности триады «слово — предмет — смысл», последний элемент которой нашёл специальное обоснование в так называемом «концептуализме» П. Абеляра. Предложенное Ф. Шлейермахером обоснование герменевтики как универсальной теории истолкования смысла текстов получило дальнейшее развитие в методологическом проекте В. Дильтея, где понимание смысла стало основополагающим методом «наук о духе» в отличие от естественнонаучного «объяснения», характерного для «наук о природе». В русле такого подхода появляются понимающая психология (В. Дильтей, Э. Шпрангер) и понимающая социология (М. Вебер и другие). В философии эмпиризма (Ф. Бэкон, Дж. Беркли, Д. Юм и другие) смысл ассоциировался с содержанием чувственного опыта, в той или иной мере связанного с миром за пределами сознания. В феноменологии Э. Гуссерля исходный анализ смысловой данности предмета в направленных на него актах сознания, различных по своему типу, получил завершение в концепции мира как горизонта интерсубъективных смыслополаганий. Феноменология смысла в значительной мере восприняла программу нововременного рационализма в его немецком классическом варианте. Ранний Гуссерль, вслед за И. Г. Фихте, убеждён, что фундамент сознания состоит в конституировании смысла. Восприятие оказывается вторично по отношению к смыслополаганию, поскольку воспринимается только уже осмысленное целое (это положение немедленно использовали сторонники гештальт-психологии). В акте конституирования наряду со смыслом субъект полагает и всю совокупность своих смысловых связей, относящихся к его актуальному и потенциальному опыту, то есть полагает горизонт. По Гуссерлю, смысл, или ноэма, характеризуется идеальностью и объективностью, что отличает его от конкретного ментального события, то есть от акта означивания или осмысления, с одной стороны, и от трансцендентального способа полагания смысла, или ноэзиса, — с другой. Ещё до формирования гуссерлевского учения наиболее важной парадигмой гуманитарно-научного мышления становится герменевтика, в дальнейшем частично соединившаяся с феноменологическим движением и усвоившая его результаты. В её современных версиях два типа герменевтического метода различаются относительно смысла: разворачивание смысла и редукция смысла. Сторонником первого — общефилософского — является Х.-Г. Гадамер, опирающийся на Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, В. Дильтея и Ф. Шлейермахера. Второй — специально-научный — представлен литературоведами, правоведами, психологами, этнографами, которые исходят из семиотической и лингвистико-аналитической традиции. Так, Э. Бетти и Э. Хирш противопоставили философской герменевтике Гадамера специально-научный, или «традиционный» герменевтический подход. Поэтому в философской (смыслоразвёртывающей) герменевтике смысл выступает как содержание сложных смысловых структур, которые, по Дильтею, могут быть отнесены к некоторым изначальным переживаниям. Понимание есть обратный перевод смысловой структуры в «духовную жизненность её истока», то есть в снятый ей исторический опыт. Как во всяком процессе перевода для понимания, помимо условия полноты смысла сообщения, справедлив принцип герменевтической отчётливости (Lauterkeit), предполагающий единство предпонимания у автора и читателя: реципиент должен исходить из истинности сказанного, если он хочет сформулировать гипотезу перевода или правило интерпретации. Философия позитивизма унаследовала эмпиристскую постановку и решение проблемы смысла: смысл является общезначимым ментальным содержанием знаков языка, которые некоторым образом относятся к наблюдаемой реальности; напротив, не общезначимые и не связанные с чувственными данными психические содержания являются бессмысленными или неразрешимыми (логически или физически). Эту позицию достаточно ясно выражает, например, К. Айдукевич, говоря об аксиоматических и эмпирических «правилах смысла» (Ajdukevich К. Sprache und Sinn. — Erkenntnis IV. 1934. S. 100–138). В рационализме, в свою очередь, смысл связывался с трансцендентной или трансцендентальной реальностью, что, напротив, подчёркивало внеэмпирический характер смыслообразования, которое возводилось к верховной духовной субстанции (Богу) или к глубинам человеческого сознания. Аналитическая философия (см. Философия аналитическая) позволила провести различие между общефилософским подходом к смыслу и анализом смысл в таких частных контекстах, как «смысл текста», «смысл действия», «смысл жизни» и других. Это обусловило, с одной стороны, большую ясность рассуждений, но одновременно свело дискуссии о смысле к техническим вопросам и формализации понятий, во многом удалённым и от анализа реального научного знания, и от смысложизненных проблем. В современной логике (см. Логика формальная) разграничение смысла и значения восходит к теории Г. Фреге, различавшего предметное значение (денотат) имени и его смысл — заключённое в имени мысленное содержание, понимание которого является условием адекватного восприятия данного имени (см. Имя, Теория именования). Исходя из общих положений об отношении тождества, Фреге устанавливает, что языковые знаки не только указывают на предметы, но одновременно включают в себя и «способ данности» обозначаемых предметов, или то, как они существуют (Frege G. Uber Sinn und Bedeutung. — Patzig G. (Hg.) Funktion, Begriff, Bedeutung. — Göttingen, 1980 (1892). S. 41). Он приходит к выводу, что помимо значения языковых знаков, то есть отнесённости к предмету, имеет место и смысловая отнесённость. Благодаря Г. Фреге, интенсиональность (более поздний термин Р. Карнапа) выражений в семантике была понята уже не как индивидуальная сущность, но как интерсубъективная абстрактная предметность, которая доступна ясной дефиниции. Было признано, что индивидуальное состояние играет некоторую роль лишь в процессе понимания интенсиональности выражений. Однако почти сразу возникли проблемы с интенсиональным содержанием единичных терминов (собственных имён и обозначений) — их смыслы являются, по Г. Фреге, индивидуальные понятия. Отсутствие таковых означает и отсутствие интенсионального содержания. Впрочем, то обстоятельство, что у имён порой отсутствует смысл и есть только значение, сегодня можно объяснить доминированием чисто логического взгляда на имя над эпистемологическим и культурологическим. На деле забвение смысла имени собственного представляет собой проблему культурной динамики. Изначально имена обладали смыслом в силу магических функций, выполняемых языком, а также слитности имени и предмета. Как только смысл имени был избавлен от предметности и обрёл полную прозрачность, он был заменён техническим «значением», стал рассматриваться как неизменное и общее и исчез за ненадобностью. На деле не только имена собственные, но и любые слова часто испытывают дефицит однозначного смысла, так как денотат всегда окружён облаком коннотаций, а эмпирический критерий демаркации денотата и коннотата невозможно окончательным образом обосновать. Стремлением избавиться от указанных проблем вызвана иная крайность — отказ от различения смысла и значения в пользу реальности последнего. Ряд аналитических философов, развивая программу физикализма в философии сознания и языка, фактически отказываются от понятия «сознание» и, тем самым, от понятия «смысл». «Слова не значат ничего. Лишь когда мыслящий субъект использует их, они чего-либо стоят и имеют значение в определённом смысле. Они суть инструменты» (Ogden С. К., Richards J. A. Die Bedeutung der Bedeutung. — F/M., 1974. S. 17). Наряду с этим, многочисленные концепции смысла (ментализм, контекстуализм, экстернализм) фиксируют отдельные аспекты континуума, разворачивающегося между «значением» и «смысл», из чего вытекают и неоправданно расширительные, и радикально элиминативистские интерпретации. В семиотике (см. Семиотика), где смысл рассматривается как понятие, характеризующее содержание языковых выражений (см. Язык), принято различать смысл и значение знакового выражения, или знака (см. Знак). Значение — это тот предмет или явление, на которые указывает этот знак в конкретной знаковой ситуации (см. Значение). Один и тот же знак может указывать на разные вещи в зависимости от ситуации. Но знак не только указывает на нечто, он ещё и «высказывает» кое-что об этом нечто. В лингвистической семантике (см. Семантика) смысл рассматривается как особая сущность, отличная от выражающего этот смысл текста, но определяющая допустимые референции текста — его способность указывать на те или иные реалии. В логической семантике (см. Логическая семантика) вводятся формальные экспликации категории смысла (интенсионал, десигнат и другие). В психологии получивший широкое распространение в начале XX века психоанализ З. Фрейда вводит практику истолкования скрытого смысла содержаний сознания и поведенческих проявлений, тем самым открывая доступ к содержанию бессознательного, служащего источником смыслов. Понятие смысла составляет одну из ключевых категорий в индивидуальной психологии А. Адлера, исходившего из целенаправленности любых поведенческих актов и бессознательных проявлений. В середине XX века распространение получила философско-психологическая концепция В. Франкла, считавшего стремление к смыслу главной потребностью человека и ведущей силой личностного развития. Согласно Франклу, смысл уникален, он находится в мире, в конкретных ситуациях, и каждый раз его нужно отыскивать заново, опираясь на совесть. Чувство утраты смысла — экзистенциальный вакуум — лежит в основе многих видов личностных нарушений и социальных патологий. Во второй половине XX века понятие смысла используется как объяснительное в ряде психологических теорий. В теории личности Дж. Ройса и А. Пауэлла личностный смысл, понимаемый как субъективная интерпретация жизни, составляет основу иерархической модели личности. В теории поведения Ж. Нюттена смысл коренится в отношениях между мотивацией и ситуацией, а поведение предстаёт как смысл, воплощённый в моторных реакциях. С конца XX века расширяется поле эмпирических исследований, особенно в позитивной психологии (Р. Баумайстер, П. Вонг и другие), где наличие и выраженность смысла оказывается одним из главных факторов душевного и телесного здоровья, а также гармоничного развития. В российской психологии к понятию смысла одним из первых обратился Л. С. Выготский, поставивший проблему смыслового строения сознания. В работах А. Н. Леонтьева и его школы была разработана концепция смысла как специфически человеческого механизма регуляции процессов деятельности и сознания. Ф. В. Бассин рассматривает смысл как разновидность «значащих переживаний», являющихся, по его мнению, основным предметом психологии. В трансперсональной теории сознания В. В. Налимова смыслы предстают как бесконечный непроявленный континуум, определённые фрагменты которого отбираются и оформляются погружённой в этот континуум личностью. |
(PDF) Психологическая концепция смысла жизни В.Э. Чудновского
Часть 3. Школа В. Э. Чудновского: статьи учеников и сотрудников
– 370 –
личности. Смысл жизни приобретает деструктивное значение только
тогда, когда его масштаб значительно превосходит возможности его
практической реализации.
смысл, при условии его продуктивной реализации, способен не ме-
нее, а то и более эффективно выполнять свои регуляторные функции,
чем смысл большого масштаба (там же).
В последующих работах В. Э. Чудновский систематизировал пред-
ставления о конструктивных и деструктивных проявлениях смысла
жизни путем введения его обобщающей характеристики — адекват-
ности. К сожалению, ни в одной из работ нет ее прямого, лаконич-
ного определения, но из косвенных высказываний явствует, что речь
идет об интегральной функциональной характеристике смысла жиз-
ни. Интегральность данной характеристики означает, что в адекват-
ности «суммируется» множество частных проявлений смысла жиз-
ни — содержательных, структурных, динамических, энергетических,
темпоральных и других. Сам В. Э. Чудновский атрибутирует адекват-
ному смыслу жизни две психологические особенности: «Реалистич-
ность смысла жизни, т.
ным объективным условиям, необходимым для его осуществления,
с другой — индивидуальным возможностям человека; конструктив-
ность, которая отражает степень его позитивного (или негативного)
влияния на процесс становления личности и успешность деятельно-
сти человека» (Вайзер, Чудновский, 2010, с. 11). Адекватность являет-
ся характеристикой функционального плана, которая указывает, на-
сколько эффективно смысл жизни справляется с исполнением своих
регулирующих функций в жизнедеятельности личности. По словам
В. Э. Чудновского, проблема адекватности смысла жизни есть «про-
блема условий, при которых смысл жизни как психологическое обра-
зование может выполнить свою основную функцию — дать человеку
почувствовать удовлетворение жизнью, а в высших своих проявлениях
достичь ощущения счастья» (1999, с. 75).
В дальнейших рассуждениях В. Э. Чудновский дополнил харак-
теристику адекватности еще одним психологическим параметром —
структурной организацией смысла жизни.
как психологического механизма, существенно обусловливающего
поведение человека и становление его личности, зависит не только от
содержания главной идеи, основной жизненной цели, но и от струк-
туры данного психического образования, представляющего собой ие-
рархическую систему больших и малых смыслов» (2006б, с. 226). Вы-
делены и описаны различные по степени адекватности типы психо-
«Смысл жизни» и родственные понятия в релевантных исследованиях
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 15-01-00445 «Конструирование смысла жизни: реальность и ее восприятие в России и сопредельных странах (социально-антропологическое исследование)», руководитель проф. О.Ю. Артемова, научный консультант акад. В.А. Тишков.
Аннотация: В статье дается краткий обзор истории возникновения, концептуализации и изучения таких понятий, как «смысл жизни», «жизненные ценности» и «жизненные смыслы» в философии, социальной и культурной антропологии, социологии и психологии.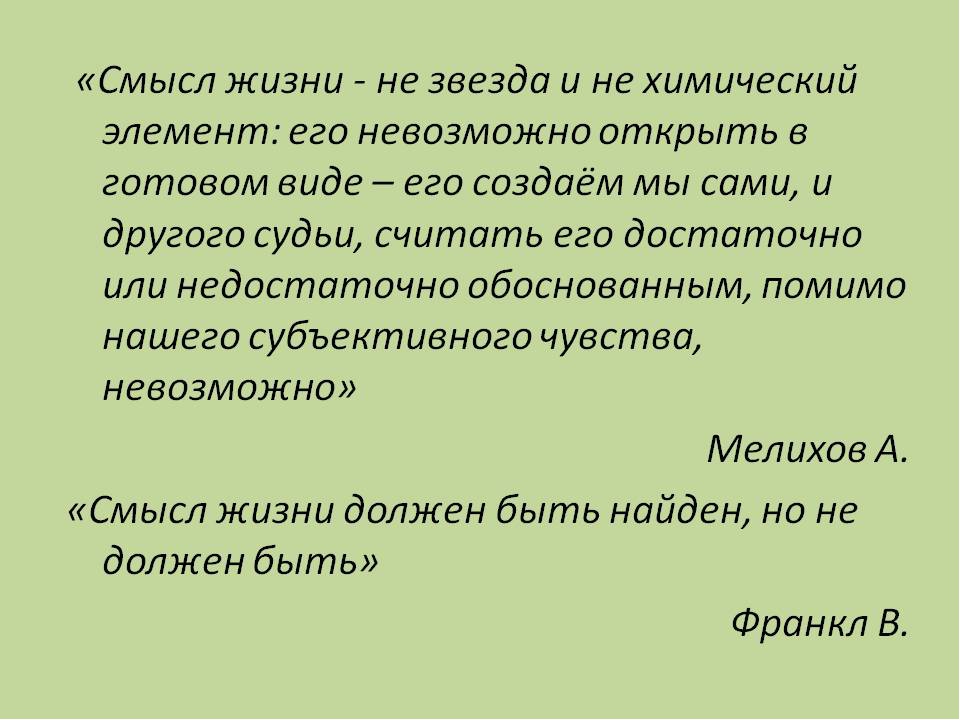
Abstract: The article gives a brief overview of the history, conceptualization and study of such concepts as «meaning of life», «life values» and «meanings of life» in philosophy, social and cultural anthropology, social science and psychology. Discusses the various methodological approaches to the study and interpretation of meanings and values, in particular, the most common structuralist approach to the study of values as attributes of supersubject reality, perceived social and cultural anthropology from the structuralist sociology of Durkheim, Parsons, examines the approaches adopted in social psychology and ethnosociology, as well as modern approaches to the study of values and value orientations.
Ключевые слова: жизненные смыслы, смысл жизни, ценности, история, изучение ценностей, ценностные ориентации, социальная и культурная антропология.
Key words life meanings, meaning of life, values, history, study of values, values orientations, social and cultural anthropology.
«Cмысл» и родственные ему понятия «смысл жизни» и «жизненные смыслы» достаточно широко используется в гуманитарных науках и в повседневности. Они употребляются в различных контекстах, порождающих всевозможные трактовки и понимание. В социальной и культурной антропологии и социологии «смыслы» используются редко, как правило, в качественном анализе того или иного явления. Само понятие смысла в этих науках эмпирически не интерпретировано и не определено. На протяжении большей части своей истории социальная и культурная антропология не проявляла интереса к проблематике смысла, и лишь в последние годы в зарубежной и отечественной социальной науке обозначился некоторых поворот в сторону изучения смыслов, в частности, как составляющей жизненного мира индивидов и социальных групп.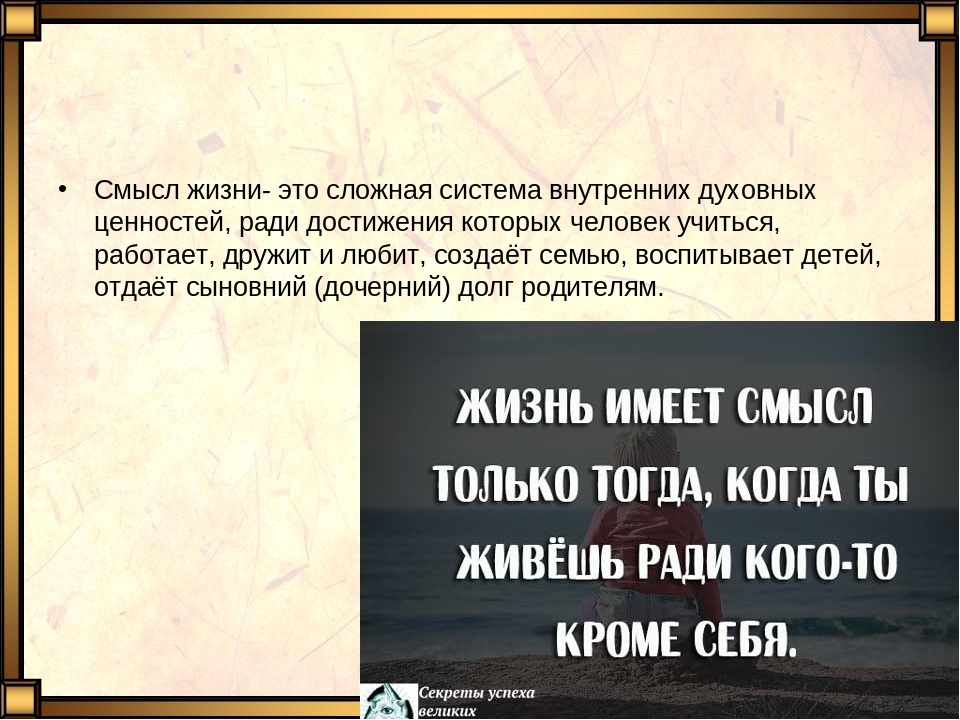
Возникновению понятия смысла жизни, его определению, интерпретации и исследованиям содержательного наполнения мы обязаны прежде всего греческой материалистической философской традиции. Первые интерпретации состояли в осмыслении процесса поиска смысла жизни как обнаружении сущности и содержания онтологического основания собственного бытия (Шрейдер 2001: 576).
Современное понимание смысла жизни было заложено в эпоху Просвещения, прежде всего такими философами, как К.
В ХХ в. особое внимание разработке содержания понятия «смысл» уделяли Б. Рассел и Э. Гусерль. «Смысл» по Расселу – это суть любого феномена, она не одинакова с ним и соединяет его с более широким контекстом (Рассел 1999). Для Гуссерля смысл существует лишь в ходе социального взаимодействия между людьми, в ходе согласования человеком своих действий с действиями других участников взаимодействия, при сопоставлении смыслов индивида и участников взаимодействия. Сопоставляя смыслы, человек принимает решение, следовать ли намеченной цели, корректировать ли ее или же вовсе от нее отказаться.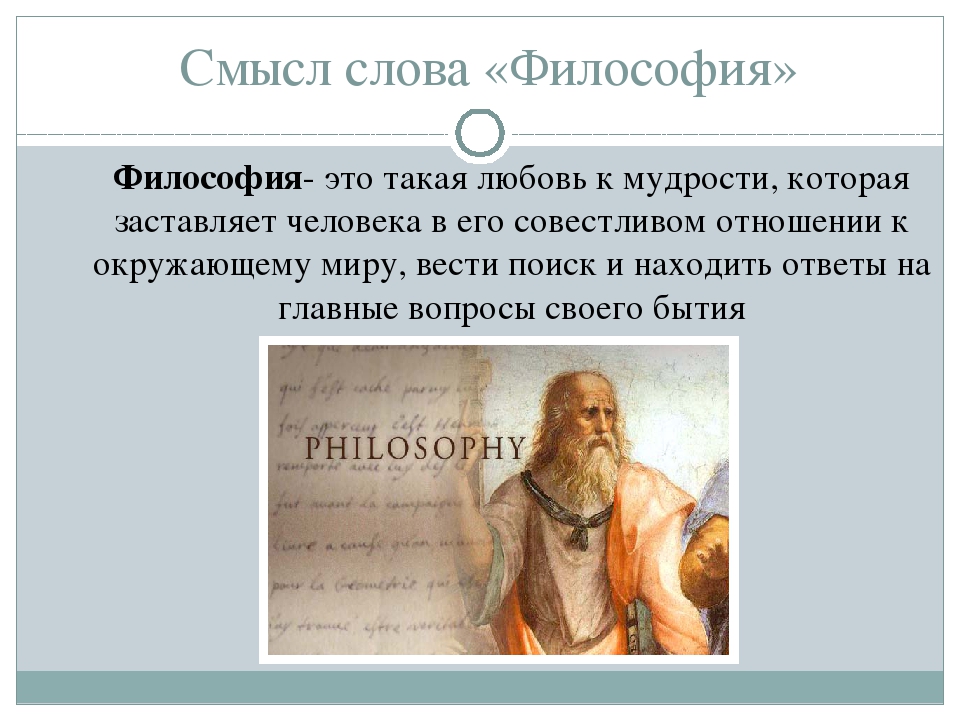
В философской традиции XX в. господствовал антропоцентризм, расцветали такие направления, как экзистенциализм, философская антропология и др. И для предшественников экзистенциалистов – А.Бергсона, В.Дильтея, Г.Зиммеля, Ф.Ницше, и для собственно экзистенциалистов – С.Кьеркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, М.Бубера, А.Камю, Ж.П.Сартра проблема смысла человеческой жизни была одной из центральных.
В отечественной философии к анализу смысла жизни обращались Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев, А.И.Введенский, В.В.Розанов, Н.
Среди современных отечественных философов, исследующих смыслы следует назвать В.М. Межуева. Он установил взаимосвязь между смыслом и ценностями. Сопоставляя смыслы и ценности, он отмечает, что смыслы принадлежат человеку и создаются живыми людьми в то время, как ценности не имеют конкретного автора и передаются из поколения в поколение зачастую в неизменном виде, а каждое новое поколение людей заново переосмысливает свою жизнь. Межуев отмечает связь смысла жизни с культурой, и заключает, что вовсе не гражданство или национальность определяют содержание жизненных смыслов.
На рубеже ХIX и ХХ вв. возрос интерес к понятию смысла жизни не только в среде психологов и социологов. В. Франкл, анализируя смысл жизни, пришел к выводу о том, что его сущность связана с определенным «смысловым органом», которым является совесть. Этот «высший судия» помогает человеку определить смысл своей жизни иногда даже вопреки существующим в его социальной среде ценностям. Зачастую это происходит тогда, когда этого требует сохранение достоинства и жизненных принципов. Человек является свободным, лишь когда руководствуется в жизни тем смыслом и ценностями, которые не зависят ни от давления обстоятельства, ни от мнения окружающих. По мнению Франкла, нахождение смысла жизни человеком – лишь половина дела, поскольку необходимо жить в соответствии с этим уникальным для каждого человека смыслом.
Взаимосвязь смысла с «социальным» отметил Э. Дюркгейм. Смысл для него неразрывно связан с социальным миром и является, вследствии этого, внешним, объективным по отношению к индивиду. Нормы права и нравы являются одними из проявлений подобных внешних смысловых факторов. (Дюркгейм 1991: 65-67). Подобного подхода к трактовке смыслов придерживался и Т. Парсонс. Он трактовал общество как упорядоченную нормативную систему, основанную на социально осмысленных действиях человека. Смысл существования человека в обществе сводится к выполнению функций в соответствии с потребностями общества. Парсонс исследовал роль моральных обязательств и общепризнанных ценностей в интеграции социальной системы, рассматривал консенсус относительно ценностей как основной интегративный принцип в обществе. Поэтому основную задачу социологии он видел в анализе институализации образцов ценностных ориентаций в социальной системе (Парсонс 1998; 2002).
М.Вебер – основоположник «понимающей социологии» — выступал противником подобного подхода. По его мнению, смыслы находятся в ведении именно индивидуального сознания, с помощью их индивид интерпретирует действия других людей. Вебер анализировал уникальные смыслы индивидуального поведения и предложил понимать их с помощью выявления общих значений, которые люди придают своим и чужим действиям. (Вебер 1990).
А. Шюц использовал понятие «смысл» как ключевое понятие в своей трактовке социальной реальности. С его точки зрения, жизненный мир – это мир непосредственной человеческой деятельности, воплощение практических жизненных смыслов взаимосогласованного человеческого опыта (Шюц 2002; 2004). Для Шюца смысл связан в первую очередь с социальным измерением. Он теоретически обосновал наличие у смысла нескольких «измерений»: предметно-тематического, темпорального — как связи смысла действия с прошлым и будущим — и социального, связанного с мотивацией участников взаимодействия. (Головин 2016: 55).
Определенный вклад в развитие понятий, связанных с понятием смысла в социологии, внесли исследования П.Бергера и Т.Лукмана, а также исследования представителей символического интеракционизма и социологии повседневности (Бауман 2008; Бергер, Лукман, 1995; Блумер 2017; Гофман 2000; 2004; Мид 1994; ). В то же время Ж.Делез, Ю.Хабермас сомневались в возможности социологического познания и полного раскрытия сути смыслов с помощью верификации и операционализации (Делез 1998; Хабермас 2000; 2011).
В последнее время социологи отмечают методологический поворот в изучении смыслов. Дж. Александер предлагает перейти от рассмотрения смыслов как переменных, зависимых от внешних факторов (социальных институтов), к рассмотрению их как причин, формирующих объективные структуры и события реального социального мира (Александер 2013).
Среди отечественных исследователей, изучающих теоретические основы и разрабатывающих методологию изучения смыслов, следует отметить Ж.Т. Тощенко. С его точки зрения, качественную определенность смыслам дает концепция социологии жизни, а основное понятие этой концепции — «жизненный мир» — «своей сущностью выражает смысл жизни… и смысл в этом случае обозначает некую итоговую, ключевую совокупность показателей происходящих измененений социальной реальности» (Тощенко 2016: 8).
Попытка выявления главных смыслов жизни в рамках этого подхода была осуществлена в РГГУ во всероссийском исследовании «Жизненный мир россиян: эволюция форм участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990-е – 2000-е годы)» (Жизненный мир…, 2016). Методология анализа смысла жизни построена “на выявлении основных целей-принципов современного россиянина, которые определяют сущность его реального сознания и деятельности, сопоставленных с социальным опытом» (Тощенко 2016: 11).
В построении объяснительной модели понятия «смысл жизни» социологи наталкиваются на трудности, связанные с выяснением истинных причин изменений в сознании и социальной практике людей, поскольку оперируют данными, характеризующими внешнюю часть социальной реальности. В отечественной социологии появлась концепция «смыслов-заменителей», которые позволяют скрывать истинные мотивы и намерения и, соответственно, истинные смыслы действий людей, социальных групп, общественных и политических институций, экономических акторов и манипуляторов общественным мнением (Шульц, Любимова, 2016). Используемые в социологии индикаторы и показатели не всегда дают возможность узнать, что является главным в жизненном мире человека, что определяет его качество, и, как следствие, определяет его жизнь.
Среди современных психологов изучающих смысл жизни в аспекте ее личностного восприятия, определения ее предназначения, поиска ее смысла в окружающем мире следует отметить Д.А. Леонтьева. Согласно его подходу, смысл жизни задается социальной общностью. Он определяется местом объекта в жизни субъекта, воплощается в структурах личности, определяет поведение субъекта по отношению к объекту (Леонтьев 1999). Смысл жизни как психическое образование изучал В.Э. Чудновский (Чудновский 1998; 2015).
Изучение смыслов было вне исследовательского интереса этнологии и социальной и культурной антропологии вплоть до недавнего времени. Социальная наука изучает и продолжает активно изучать смежные категории, такие, как мнения, объект-ориентированное отношение, а также ценности.
В философии учение о ценностях возникло в эпоху Античности и разрабатывалось на протяжении всей истории духовной культуры. В западной философии и социальных науках в XIX -XX в. проблематика ценностей наиболее полно разработана в трудах таких западных философов и исследователей, как С. Александер, В. Виндельбанд, Н. Гартман, Гильдебранд Д., В. Дильтей, И. Кант, Г. Риккерт, А. Уайтхед, О. Шпенглер, Р. Перри, М. Шелер, М. Вебер, Т. Парсонс, К. Клакхон, Э. Кассирер, А.Тойнби, П. Сорокин, Э. Тоффлер, Р. Штерн, Р. Ингарден, Н. Решер, и др. Аксиологической проблематикой занималась и продолжает заниматься отечественная философия. Ценности изучаются в работах А.Ф. Анисимова, В.В. Розанова, Н.О. Лосского, М.С. Кагана, А.А. Гусейнова, ДА. Леонтьева, М.К. Мамардашвили, В.Н. Сагатовского, В.К. Шохина и др.
Социальные и культурные антропологи и социологи, как правило, изучают ценности в той аксиологической парадигме, в которой ценности рассматриваются в качестве феноменов, относящиеся к надсубъективной реальности. Со времен Дюркгейма и Вебера ценности понимаются как социальные нормы и регуляторы поведения, акцентируется надличностный характер ценностей, они рассматриваются как атрибут группы.
В определенный период развития науки ценностный подход к изучению культуры стал чрезвычайно популярен. Основу изучения ценностей в культурной антропологии заложили Клайд и Флоренс Клакхоны и Фред Стродбек в конце 40-х-начале 50-х гг. ХХ в. Клакхон первым среди этнологов, операционализировал понятие «ценность». Согласно его определению, «…ценности — это осознанное или неосознанное, характерное для индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и способов действия» (Klukhohn 1951: 395).
Ценности рассматривались как некие установки, действующие в качестве стандартов, посредством которых оценивается выбор. Клакхон также ввел в научный оборот понятие «ценностная ориентация». В дальнейшем ценностный подход разрабатывался в психологической антропологии, социальной психологии и кросс-культурной психологии в рамках исследований «основной личностной структуры», которые пришли на смену популярным в 1930-е гг. исследованиям национального характера. Стродбек и Клакхон сформулировали теорию базовых человеческих ценностей и ценностных ориентаций, которая утверждает, что людям присущи общие биологические характеристики, формирующие основу для развития культуры. Ценностные ориентации при этом определяются как логическим образом сгруппированные, сложносоставные принципы придающие направленность мотивам человеческого мышления (Kluckhon, Strodtbeck 1961).
Антропологи разработали методический подход к кросс-культурным исследованиям ценностей, предложили cобственный метод их систематизации, а также разработали специальный тест. Культура описывалась по заранее заданным параметрам, и предлагались несколько вариантов ответов на глобальные вопросы. Клакхон был первым, кто разделил ценности на «инструментальные», или относящиеся к средствам достижения цели, и на «ценности цели». Клакхона интересовали универсальные ценностные доминанты, а проблемы повседневной жизни в данном подходе рассматривались как полностью детерминированные глобальными ценностями.
В целом, в науке в то время доминировал подход, при котором личность рассматривалась как система ценностных ориентаций, аналогичных тем, что характеризуют культуру в целом, ценностные доминанты культуры и ценностные доминанты личности рассматривались как идентичные. Этнологи, в первую очередь, рассматривали индивида как носителя культуры или представителя группы, дающего информацию о коллективных ценностях, и, только во вторую очередь — о самом себе непосредственно. Впоследствии, культурные антропологи отказались от подобного смешения. Ф. Клакхон и Ф. Стродбек предполагали, что ценности «операционализируются» как конкретный выбор из определенного ограниченного числа возможностей, присутствующих в повседневной жизни человека. На основе полученных данных о выборе человеком определенной модели поведения в определенной жизненной ситуации делался глобальный вывод относительно, в частности, этоса данной культуры.
В различных исследовательских традициях сформировались очень разные взгляды на суть и происхождение ценностей. «Представители культуро-центрированного подхода считали, что коллективные ценности влияют на ценностную структуру индивида. Представители личностно-центрированного подхода утверждали, что, напротив, следует говорить о влиянии индивидуальных особенностей личностей, модальных в данной культуре, на формирование групповых ценностей» (Лурье 2004: 126). Для доказательства этого в кросс-культурных исследованиях активно использовались статистические методы и психометрические подходы.
Вопрос о возможном синтезе этих двух подходов встал в конце 1960-х годов в рамках символической антропологии. Ставя перед собой задачу разработать концептуальную модель взаимодействия между индивидуальными и групповыми ценностями, антропологи и социологи стали изучать процесс формирования индивидуальных ценностей и их модификации в соответствии с изменением социокультурного окружения. Была разработана теория символического интеракционизма, в рамках которой концепция ценностей стала рассматриваться как центральная в системе человеческой личности, как база, на основе которой, человек как бы конструирует самого себя. Согласно теории символического интеракционизма, личностные ценности есть следствие сложного взаимодействия между индивидом и культурой.
Социальные (культурные) антропологи, как и специалисты других дисциплин, сталкивающихся с разнообразием культур, стремились к измерению и упорядочиванию этого разнообразия, к привязыванию этого разнообразия к определенным системам и осям измерений. Развитие математических методов и технологий открыло новые возможности для традиционной этнологии: она стала активно взаимодействовать с социологией и демографией. Ф. Клакхон и Ф. Стродбек впервые применили синтез новых методик и традиционного этнологического подхода. Данные опросов, проведенных в форме стандартизированного интервью, в котором респондентам предлагалось выбрать ответ из нескольких вариантов, подвергались проверке при помощи наблюдения и анализа поведения людей в реальной жизненной ситуации. Клакхон и Стродбек обосновали применение методик «жестких» формализированных опросов для исследования ценностей в сочетании с классическими методами социальной и культурной антропологии. Интерпретация результатов оставалась на совести исследователей, поэтому неизбежно вставал вопрос о корреляции количественного и качественного подходов в подобных исследованиях.
Ценностный подход в целом представляет собой изучение как бы горизонтального среза культуры, фиксацию статуса кво культуры. В результате применения этого подхода определяются современные ценности того или иного общества, изучается текущее состояние этого общества. В дальнейшем изучение ценностей в рамках культурной антропологии сконцентрировалось на эмпирических исследованиях, а также на развитии методик исследований и интерпретации данных, серьезного же теоретического развития в данной области знания не произошло. В последующее десятилетие в этнологии появилась новая научная парадигма, культура стала рассматриваться как когнитивный феномен, и «философский» подход к ценностям оказался замененным на методики, пришедшие из структурной лингвистики. Исследовательский фокус сместился с изучения ценностей в область изучения процессов восприятия (Лурье 2004: 130). Большую популярность приобрела концепция «картины мира» Р. Редфилда, из которой впоследствии развилась когнитивная антропология. (Redfield 1956). В отличие от ценностного подхода, изучение «картины мира» сосредотачивается на категориям, в которых описывает свою культуру ее представитель. Интерес исследователей с психологических аспектов постепенно смещается в сторону изучения когнитивных категорий и знаковых систем культуры. Культура все более начинает рассматриваться, как система моделей поведения человеческой группы.
Ценностный подход, зародившийся в этнологии, постепенно стал популярной областью исследования в социологии, психологии, а также таких дисциплин, как политология, маркетинг и т.д. Теоретическая основа и методологические принципы, разработанные К. Клакхоном и Ф. Стродбеком, продолжают развиваться и до сих пор не потеряли своей актуальности. Они легли в основу большинства подходов к изучению ценностей, в частности, на них основаны подходы М. Рокича и Ш. Шварца.
Теоретические разработки Рокича стимулировали интерес к ценностям в психологии. Он предложил свое определение ценностей и инструмент их измерения согласно своему пониманию ценностей как руководящих принципов жизни человека. Развивая идеи К. Клакхона, он разработал типологию ценностей (Rokeach 1973; 1979).
Социальные психологи, а вслед за ними социальные антропологи и социологи в настоящее время относят ценности к категории приобретенных поведенческих склонностей (Campbell 1963). Вслед за Дюркгеймом структуралистски ориентированные исследователи пришли к выводу, что большинство поведенческих склонностей возникает из групп-специфических структур, которые шаблонизируют объект-ориентированные отношения, ценности, мотивы, нужды и восприятия людей, принадлежащих к группе (см., например, Rokeach 1973, 1979; Schwartz 1992, 1997; Lazarsfeld, Berelson and Gaudet 1968; Campbell 1963; Hofstede 1980). Считается, что ценности достаточно стабильны, чтобы содержать в себе прошлые и будущие желания, чаяния и мотивы, управлять аттитюдом и перцепцией, определять опыт и подсказывать подходящее поведение. Таким образом, будущие и прошлые мотивы, восприятия и чаяния являются компонентами определенной относительно инертной системы ценностей. Ценности, с точки зрения структуралистов, настолько центральны для членов группы, что многие исследователи изучают ценности с целью понять саму группу. (см. Schwartz 1992; Hofstede 1980).
Ш. Шварц и В. Билски в конце 1980-х гг. предложили новый теоретический подход и свою методику изучения ценностей, которая показала себя эффективной при изучении ценностей и ценностных ориентаций как групп, так и отдельных индивидов, и, в силу своей универсальности, оказалась применима как для исследований ценностей в отдельно взятой культуре, так и для кросс-культурных исследований (Schwartz, Bilsky 1987; Schwartz 1994). Согласно их концепции, ценности – относительно стабильные верования, которые смешаны с аффектом. Люди применяют ценности, принятые в культуре, для того, чтобы определить, какое поведение является приемлемым и затем обосновать свой выбор перед другими. Ценности превосходят отдельные конкретные действия и направляют восприятие, оценку и поведение. Приоритеты ценностей влияют на то, как инвестируются и распределяются социальные и иные ресурсы в обществе, а также на то, как будет оцениваться какая-либо деятельность членов общества. Шварц выделил десять основных типов мотивации человека, которые, по его мнению, соответствуют основным типам ценностей, которые и определяют направленность, как отдельных действий индивида, так и всей его жизненной активности. В результате эмпирических исследований была доказана универсальность ценностных типов, а также тот факт, что в большинстве культур люди применяют десять типов ценностей в качестве руководящих принципов жизни (Schwartz 1992). Изучение ценностей по методике Шварца проводятся в России (Карандашев 2004; Лебедева, Татарко 2007).
По инициативе Шварца создана Международная программа сравнительного кросскультурного изучения ценностей, которая действует и в настоящее время. Лонгитюдное кросс-культурное «Исследование мировых ценностей» (World Values Survey) ведется примерно в 100 странах посредством единого опросника методом face—to—face interview. Этот проект является крупнейшим из когда-либо осуществлявшихся академических некоммерческих кросс-культурных логнитюдных исследований ценностей. Данные, полученные в ходе опросов, и результаты их анализа находятся в открытом доступе на сайте WVS.
За всю историю изучения ценностей проведено множество национальных, общегосударственных и транснациональных исследований. (см., например, Hofstede 1980; Rokeach 1973, 1979; Reif and Inglehart 1991; Инглхарт 1997; Триандис 2007). Показано, что некоторые ценности всегда встречаются вместе в то время, как другие почти никогда не встречаются в одной группе. Атомизированных ценностей не существует. При исследовании ценностей изучают ценностные системы, которые также называют системами идеологий. Согласно такому подходу, группы, организации и культуры разделяют общие ценности, которые, в свою очередь, дают начало объектно-специфическим отношениям индивидов-членов группы, организации, культуры.
Не все исследователи разделяют подобные структуралистские объяснения. Функционалисты, интеракционисты, сторонники теории рационального выбора не разделяют мнения о том, что поведенческие предпочтения возникают из социльной структуры. Структуралистов обвиняют в излишней детерминистичности и неспособности объяснить множество существенных внутригрупповых различий. Наши ценности иногда могут быть несовместимы друг с другом, мы можем придерживаться взглядов, которые ценностная система нашей культуры не учитывает. Люди активно «перерабатывают» информацию и вполне способны к агентности в повседневной жизни. Структуралистский подход отвергает или упускает из виду существование агентности и индивидуальных комплексов личностных ценностей. Вместе с тем нельзя не признать, что все элементы нашей жизни и социальных отношений подчиняются мощным социальным силам и в большинстве ситуаций индивиды с разной степенью интенсивности связаны с группой (Bergman 1998: 86-87).
В течение нескольких десятилетий два этих подхода к изучению ценностей в социальных науках были конкурирующими и конфликтующими. В настоящее время исследователи в большей степени переключили внимание с исследования собственно ценностей и их систем на изучение специфических институтов, участвующих в воспроизводстве ценностей. Вместо того, чтобы решать, являемся мы автоматическим результатом социализации или же мы все-таки свободные агенты, исследователи изучают условия, которые в один период времени могут заставить нас стать автоматами в руках структурных сил, но в другое время позволяют проявляться нашей агентности, условия, при которых ценности направляют и нормируют наши мысли, чувства и поведение, а также условия, при которых мы можем выйти за рамки этих нормативных руководящих принципов.
Литература
Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М., 2013.
Бабайцев А. Ю. Смысл и значение // Всемирная энциклопедия. Философия. М., Минск, 2001. С. 954–955.
Бауман З. Текучая современность. М., 2008.
Блумер Г. Символический интеракционизм. М., 2017.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995.
Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1916.
Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1923.
Вебер М. Избранные произведения. М. 1990.
Головин Н. А. К основам понятия смысла: актуализация вклада А. Шюца в теоретическую социологию / Социология жизни: теоретические основания и социальные практики. М. 2016.
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. 2000.
Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М. 2004.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. М. 2001.
Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. М., Екатеринбург. 1998.
Длугач Т. Б. Здравый смысл как философская идея французских просветителей // Философские науки. 2015. № 9. С. 127–140.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1991.
Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / Под ред. Ж. Т. Тощенко. М. 2016.
Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. М. 1997. № 4. С. 6-23.
Зеленкова И. Л. Проблема смысла жизни: опыт историко-этического исследования. Минск, 1988.
Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. Спб. 2004.
Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М. 2007.
Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М., 1999.
Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. – М., 2004.
Межуев В. М. Ценности и смыслы в контексте культуры // Международные Лихачевские научные чтения. Глобализация и диалог культур. Избр. доклады (1995–2015). СПб., 2015. С. 802–805.
Мид Дж. От жеста к символу / Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1994.
Сорокин П. А. Общество. Культура. Личность. М., 1993.
Тощенко Ж. Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические исследования. 2016а. № 1. С. 6–17.
Тощенко Ж. Т. Социология жизни. М. 2016б.
Триандис Г. Культура и социальное поведение. М. 2007.
Трубецкой Е. Н. Избранное. М. 1995.
Франк С. Л. Духовные основы общества // Русское зарубежье. Л. 1991.
Франкл В. Е. Человек в поисках смысла. М., 1990.
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998.
Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002.
Рассел Б. Исследования значения и истины. М., 1999.
Хабермас Ю. От картин мира к жизненному миру. М., 2011.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / пер. с нем. под ред. Д.В. Скляднева. М., 2000.
Чудновский В.Э. Смысл жизни и судьба человека // Общественные науки и современность. 1998, № 1. С. 175-183.
Чудновский В.Э Смысл жизни: некоторые итоги и перспективы исследований // Психологижурнал. 2015. Т. 36. № 1. С. 5–19.
Шрейдер Ю. Смысл // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2001. Т. 3. С. 576–577.
Шульц В. Л., Любимова Т. М. Тайные языки как конструкты социальной реальности // Социологические исследования. 2016. № 6. С. 3–13.
Шюц А. Избранное: мир, освященный смыслом / Сост. и пер. Н. М. Смирновой. М., 2004.
Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. М., 2002.
Baumeister R. Meanings of Life. New York: Guilford Press.1991
Bergman M. A Theoretical Note on the Differences between Attitudes, Opinions, and Values // Swiss Political Science Review. 1998. № 4(2): 81-93.
Сampbell D. Social Attitudes and Other Acquired Behavioral Dispositions / Psychology: A Study of a Science. Vol.6. New York: McGraw-Hill. 1963.
Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills. CA: Sage. 1980.
Kluckhohn C. Values and value-orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. / Toward a general theory of action. Cambridge, Mаss: Harvard University Press. 1951.
Kluckhohn C., Strodtbeck F.L. Variation in Value Orientations. Evenston, Ill, Elmsford, New York: Row Peterson, and comp.1961.
Lazarsfeld P., Berelson B.,Gaudet B., Gaudet H. The People’s Choice. New York: Columbia University Press. 1968.
Redfield R. Peasant Society and Сulture. An Anthropological Approach to Сivilization. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.
Reif K., Inglehart R. Eurobarometer: The Dynamics of European Public Opinion. Basingstock: Macmillan. 1991.
Rokeach M. The Nature of Human Values. New York: Free Press. 1973.
Rokeach M. Understanding Human Values: Individual and Societal. New York: Free Press. 1979.
Schwartz S.H. Universals in the Content and Structure of Values// Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press. 1992. Vol 25.
Schwartz S.H., Bilsky W. Values and Personality// European Journal Of Personality, 1994, Vol.8, Issue 3: 163-181.
Schwartz S.H., Bilsky W. Toward a Universal Structure of Values // Journal Of Personality and Social Psychology. 1987. № 53: 550-562.
Наталья Владиславовна Крюкова, преподаватель Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, аспирантка Института этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия, [email protected]
в чем философия предлагает поискать смысл жизни — Нож
Хотя смысл жизни — традиционный вопрос философии, исследовать его специально ученые стали только около полувека назад: тогда философия смысла жизни стала отдельным направлением. До этого философы пытались понять, что же такое счастье, нравственная жизнь, добро, справедливость и ответственность, искали определение понятиям «человек» и «бытие» и как бы между прочим отвечали на вопрос о смысле жизни. Почему этот вопрос всё время возникает снова и снова?
Люди — пока что единственные живые существа, способные на рефлексию и взгляд на самих себя со стороны. В отличие от котиков и хомячков мы в любой момент можем отвлечься от своих занятий и спросить себя, почему из множества дел мы выбрали именно это.
Такая способность не только может уберечь нас от выполнения ненужных дел, но и заставляет задумываться о глобальных вещах: почему мы вообще что-либо делаем, зачем живем? Рефлексия также помогает нам осознавать собственную смертность: понимание конечности жизни делает вопрос о ее смысле насущным. Особенно остро мы это чувствуем в кризисные моменты или, как сказали бы философы-экзистенциалисты, в «пограничных ситуациях»: например, когда переживаем смерть близких, узнаем про неизлечимую болезнь, попадаем в катастрофу или разводимся.
Как это обычно и бывает в философии, одного-единственного правильного ответа не существует, и разные философские школы предлагают свои варианты.
Учиться мудрости: жить как Сократ
Для древнегреческого философа Сократа (по крайней мере, если верить его ученику Платону) смыслом жизни является мудрость, познание и самопознание. Только они и способны сделать нас по-настоящему счастливыми, потому что учат нас не радоваться материальным вещам, а тому, как мы ими распоряжаемся. Какой смысл в деньгах, если они используются для войн и делают других несчастными? Какой смысл в золоте, если оно не приносит пользы ни нам, ни окружающим?
Сократ заметил, что даже самые хорошие вещи в руках глупого человека только сделают его более несчастным, ведь он не будет знать, как ими правильно распоряжаться.
Деньги он потеряет, здоровье разрушит, потому что не будет следить за собой, любовь упустит из-за придирок или завышенных ожиданий. Глупый человек обречен на несчастья, сколько бы он ни имел — так считал Сократ, а потому учил, что только в обретении мудрости и заключается наивысшая цель нашей жизни. Ведь умный, даже не имея ничего, найдет способы, как обернуть ситуацию в свою пользу.
«Поскольку мы все стремимся к счастью и, как оказалось, мы счастливы тогда, когда пользуемся вещами, причем пользуемся правильно, а правильность эту и благополучие дает нам знание, должно, по-видимому, всякому человеку изо всех сил стремиться стать как можно более мудрым».
— Сократ в диалоге Платона, «Евтидем»
Наслаждаться: жить моментом, как киренаики
С Сократом не соглашались его ученики, известные как школа киренаиков. Они считали, что познание субъективно — то есть истина у каждого своя, а потому мудрости учиться не надо, а лучше объявить различные радости (включая и простые телесные удовольствия вроде еды и секса) смыслом жизни.
Киренаики рассуждали так: раз будущее неизвестно, а одно и то же может разным людям (или одному человеку в разные времена) приносить и удовольствие, и страдание, нужно жить настоящим и пытаться каждый миг своей жизни сделать максимально счастливым: радоваться вкусной еде и вину, хорошей погоде и встречам с друзьями.
Неизвестно, каким окажется будущее, а жизнь происходит уже сейчас и складывается из вот таких вот отдельных моментов.
В этом и заключается смысл по-киренайски — наслаждаться жизнью и самому решать, что для тебя такое «наслаждение»: пиры и вино или интеллектуальные беседы и философия. Киренаики одобряли всё.
«Не нужно ни жалеть о прошлом, ни бояться будущего; но нужно довольствоваться только настоящим, да и то только каждым его моментом в отдельности.
Отдельное наслаждение само по себе достойно выбора. Но счастье возникает не само через себя, а через отдельные наслаждения».
— цитаты киренаиков по Лосеву, «Киренаики»
Духовно наслаждаться: жить по-эпикурейски
Взгляды киренаиков — это то, что обычно имеют ввиду, когда говорят о гедонизме: удовольствия и вседозволенность. Но не все философы готовы признать, что в простых наслаждениях и заключается смысл нашей жизни. Однако и от удовольствий отказываться они не всегда готовы. Как это совместить?
Древнегреческий философ Эпикур делил все удовольствия на «временные» и «постоянные». Первые — это те, что приходят и уходят, и после них обязательно следует страдание: например, мы были голодны, вкусно поели и получили наслаждение от еды, но спустя пару часов снова хотим есть, а значит, страдаем и опять находимся в поисках удовольствия. И так по кругу. Позже английский философ-утилитарист Джон Стюарт Милль назовет эти удовольствия «низшими» и подчеркнет, что эпикурейцы советовали воздерживаться от них.
Вместо этого Эпикур предлагал сделать смыслом своей жизни получение «постоянных» (или «высших») удовольствий — душевного покоя, благоразумия и умеренности.
Если мы достигаем душевного равновесия, оно никуда не уходит и поддерживает нас в сложные минуты, помогает видеть в жизни главное. Чтобы достичь такого состояния духа, Эпикур советовал заниматься самопознанием, изучать всё новое, не бояться богов и смерти, а также сосредоточиться на том, что в наших силах.
«Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждения распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение, — нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души. Ибо не бесконечные попойки и праздники, не наслаждение мальчиками и женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь сладкою, а только трезвое рассуждение, исследующее причины всякого нашего предпочтения и избегания и изгоняющее мнения, поселяющие великую тревогу в душе».
— Эпикур, «Письмо к Менекею»
Преодолеть страдания: жить как стоики и Будда
Учение Эпикура во многом перекликается с тем, что советуют стоики и буддисты. И те и другие ищут смысл жизни в душевном покое — только он достигается не за счет поиска постоянных удовольствий, как думают эпикурейцы, а благодаря свободе от страданий. Итак, как же перестать страдать? Тут есть несколько рецептов.
Стоики считали, что мы способны преодолеть страдания, только достигнув особого состояния — апатии. И это не полное равнодушие и даже упадок сил, как принято сейчас думать, а специфическое состояние ума, которое достигается благодаря правильным суждениям и самоконтролю.
Когда мы поймем, что всё в мире делится на то, что мы можем контролировать, и на то, что не можем, а также начнем беспокоиться только о первых и не переживать о вторых, — тогда мы начнем жить стоически. Причем единственное, что мы полностью можем контролировать — это наше отношение к ситуации. Только мы сами вправе решать, переживать нам из-за плохой погоды, или вместо этого одеться теплее и сосредоточиться на своем душевном равновесии. И перестать страдать.
«Если ты огорчаешься по поводу чего-либо внешнего, то угнетает тебя не сама эта вещь, а твое суждение о ней. Но устранить последнее — в твоей власти. Если же тебя огорчает что-либо в твоем собственном настроении, то кто мешает тебе исправить свой образ мыслей? Точно так же, если ты огорчаешься по поводу того, что не делаешь чего-либо, представляющегося тебе правильным, то не лучше сделать это, нежели огорчаться?».
— Марк Аврелий, «Наедине с собою»
Философия буддизма тоже ставит свободу от страданий превыше всего. Чтобы добиться такой свободы, стоит помнить, что источник страданий — наши желания. Мы постоянно чего-то хотим и страдаем, когда этого у нас нет. Получив же, страдаем, потому что легко можем этого лишиться, а также потому, что начинаем хотеть большего (или чего-то другого). Только отказавшись от всех желаний, мы способны избавиться от страданий и достичь особого состояния — нирваны.
Впрочем, словосочетание «смысл жизни» в привычном нам значении не очень-то к буддизму применимо. Буддизм — это широкое направление философии. В нем столько разных школ и течений и такая сложная терминология, что некоторые западные философы напоминают нам: всё, что западному пониманию доступно, — это «адаптация» буддизма для нашей культуры. Конечно, это не означает, что его нужно бросить и вообще не исследовать, просто стоит всегда помнить об ограниченности нашего понимания.
Построить идеальное общество: жить по-конфуциански
Еще один любопытный вариант смысла жизни, доставшийся нам в наследие из восточной философии, — это стремление построить совершенное общество, в котором будет достигнута гармония между человеком и Небом.
Древнекитайский философ Конфуций учит, что идеальное общество можно построить, только если каждый человек будет хорошо исполнять свои обязанности и следовать своей судьбе.
Он рассматривал каждого человека как винтик в большом механизме, для слаженной работы которого важно, чтобы каждый старательно исполнял свои обязанности. Только работая сообща, исполняя свою предписанную роль и уважительно относясь друг к другу, люди способны жить в лучшем обществе. А потому и смыслом жизни Конфуций объявлял самосовершенствование и наилучшее исполнение той работы, которая тебе дана. Каждый человек, кем бы он ни был, способен учиться и совершенствовать то, что он делает: неважно, будто то уборка и готовка или управление страной.
Кроме того, Конфуций напоминает, что люди никогда не должны забывать и о других. Много внимание в конфуцианстве уделено отношениям: как быть хорошим сыном и родителем, как любить всех людей и как исполнять свой долг перед другими.
«Когда человек совершенствует то, что ему дано от природы, и использует это во благо других, он недалек от Истинного Пути. Не делайте то, что вам не нравится, по отношению к другим людям».
— Confucius, The Doctrine of the Mean
Исполнять свой долг: жить как Кант
Если идеи долга вам близки, но строить идеальный мир как-то не хочется, то спросите, в чем смысл жизни у немецкого философа XVIII века Иммануила Канта. Он посоветует добровольно следовать категорическому императиву или, проще говоря, моральному закону, который звучит так:
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства».
— Иммануил Кант, «Критика практического разума»
Кант предлагает еще несколько вариаций категорического императива, но его суть такова: наш долг в том, чтобы жить и относиться к другим людям так же, как мы хотели бы, чтобы жили другие и относились к нам самим.
Проще говоря, если унижаешь других, не жалуйся, когда унижают тебя. А если хочешь, чтобы тебя любили, в первую очередь люби и уважай других.
Впрочем, Кант не поощряет эгоизм и учит, что к другим ни в коем случае нельзя относиться как к средству для достижения собственных целей: например, любить других только для того, чтобы любили тебя. Наоборот, нужно ценить каждого человека и видеть в нем личность или, как сказал бы Кант, «конечную цель». Только жизнь в согласии с моралью и может быть осмысленной.
Делать счастливыми других и быть самому счастливым: жить как утилитаристы
Однако не все философы согласны, что мораль заключается только лишь в исполнении нравственного долга. Утилитаризм учит, что действие может быть названо моральным, только когда оно приносит как можно больше счастья и пользы всем вокруг. А значит, и смысл жизни состоит в том, чтобы это счастье максимизировать и быть, таким образом, полезным обществу.
Но как этого добиться? Можно, например, мысленно подсчитывать, как много счастья принесет то или иное действие, а затем делать то, что наиболее полезно обществу.
Иногда даже во вред себе: выбирая между счастьем одного или десятерых, утилитарист предпочтет количество. А потому жизнь, наполненная смыслом, будет та, в которой человек приносит наибольшую пользу обществу и делает как можно больше людей счастливыми.
Утилитаристов за это любят покритиковать: не всё в жизни можно так легко подсчитать и сравнить, да и люди вряд ли согласятся жертвовать собой в угоду остальным.
Английский философ XIX столетия Джон Стюарт Милль возражает на это: «Счастье остальных делает счастливым и меня самого», — потому мы и совершаем добрые альтруистические поступки. Чаще всего именно они и наполняет нашу жизнь смыслом: делая счастливыми других и видя на их лицах улыбки, мы и сами становимся чуточку счастливее.
Смысла нет: жить нигилистически
Впрочем, часть философов вообще сомневается в том, что в жизни есть какой-либо смысл. Например, немецкий философ XIX столетия Фридрих Ницше напоминает, что нет никакой объективной истины, всё зависит только от нас самих, точнее, от того, с какой стороны мы смотрим на вещи. У мира нет никакого смысла, как нет одной объективной истины, и нам нужно прекратить поиски.
С ним соглашается французский философ XX столетия Альбер Камю, который тоже говорит, что жизнь абсурдна и не имеет никакого смысла, как бы мы отчаянно ни пытались его найти. Все наши попытки — всего лишь разные точки зрения, ни одна из которых не может быть окончательной.
Он сравнивает вечные попытки человека найти всему объяснение с Сизифовым трудом: мы катим камень в гору, надеясь, что в этот раз удастся закатить его на вершину, смысл найдется и всё станет ясно, — вот только камень всегда скатывается вниз, мы остаемся ни с чем и начинаем всё по новой.
Жизнь бессмысленна, но это не значит, что следует сдаться и отказываться жить. Скорее, стоит прекратить попытки искать смысл и заявить, что отсутствие смысла дает человеку огромную свободу. Можно делать всё, что хочется, и не переживать за то, что твои действия бессмысленны.
Можно, наконец, честно сказать себе: «Жизнь — это абсурд, но я буду ею наслаждаться». Не жалеть о прошлом, не переживать за будущее, просто жить.
«Всё завершается признанием глубочайшей бесполезности индивидуальной жизни. Но именно это признание придает легкость, с какой они осуществляют свое творчество, поскольку принятие абсурдности жизни позволяет полностью в нее погрузиться».
— Альбер Камю, «Миф о Сизифе»
Искать собственный смысл жизни: жить, как учат современные философы
Одной статьи не хватит, чтобы описать все возможные варианты ответов на вопрос о смысле жизни. Да и жизни тоже не хватит, чтобы прочитать всех мыслителей и узнать, в чем они находили смысл.
А потому некоторые современные философы поступили хитрее: они считают, что каждый человек должен сам найти для себя свой смысл жизни.
Не стоит ждать, пока кто-то из мудрых ответит на этот самый главный вопрос, пора брать жизнь в свои руки и искать то, что вдохновляет и наполняет серые дни смыслом.
«Мне не кажется, что жизнь в общем имеет какую-либо цель. Она просто происходит. Но у каждого конкретного человека есть своя цель».
— Бертран Рассел, «Кто такой агностик?»
И вот эту самую свою цель и нужно найти, а затем жить так, чтобы ее достичь. Впрочем, философы предупреждают: зацикливаться на будущем так же опасно, как и надеяться на то, что ответ на вопрос о смысле жизни можно узнать, прочитав один лишь учебник.
«Привычка надеяться на будущее и думать, что оно придает смысл тому, что происходит сейчас, очень опасна. Не будет никакого смысла в целом, если нет смысла в его частях. Не нужно думать, что жизнь — это мелодрама, в которой главный герой или героиня мучаются и страдают, а потом обретают счастье. Я живу сейчас, и это мой день, потом у моего сына будет свой день, а затем его сын придет на его место».
— Бертран Рассел, The Conquest of Happiness
В конце концов, это правда: научиться жизни можно, только начав непосредственно жить. Это страшно. Непонятно, как это всё делается, но у нас нет другого пути. К жизни не прилагается никакой готовой и проверенной инструкции. А если бы она была, то жить было бы слишком скучно.
Зато можно придумать инструкцию по сбору своего смысла жизни — что мы и сделали.
2.2 Понятие смысла жизни в философии. Идейно-художественный анализ романа С. Моэма «Разукрашенный занавес»
Похожие главы из других работ:
Диалог прошлого и будущего в судьбах героев романа «Бильярд в половине десятого» Г. Бёлля
1. Категория времени в философии и литературоведении
В различных системах знания существуют разнообразные представления о времени: научно-философское, научно-физическое, теологическое, бытовое и многие другие…
Закономерности становления и развития общетеоретических взглядов Жана-Поля Сартра на гуманизм
2. Развитие концепции гуманизма в современной философии
…
Символы в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»
4. РОЛЬ АНТИЧНОГО МИФА О ЦАРЕ ЭДИПЕ В РАСКРЫТИИ АРХЕТИПИЧЕСКОГО СМЫСЛА ПОВЕСТВОВАНИЯ
В романе и нигилисте разрыв современного человечества с культурной памятью прошлого трактуется не как принципиально непреодолимый, а как наказуемый. Базаров в конце концов тоже окажется подвластен приметам, талисманам…
Сложность и многогранность образов главных героев в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
2.2 Попытка нового прочтения личности Максима Максимовича, анализ внутреннего смысла его поступков
Образ Максима Максимыча прочно вошел в сознание русского, а затем и российского читателя, как образец доброго и простодушного офицера…
Современное искусство и учение Лессинга о границах живописи и поэзии
1.2 Концептуальные основы философии искусства Г.Э. Лессинга
Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) — драматург, публицист и баснописец — наибольшее влияние на мировую литературу оказал своими теоретическими работами. Уже в «Письмах…
Сопоставление понимания смысла и счастья жизни героями рассказов Б. П. Екимова и современными подростками
Счастье жизни — в самой жизни, любви к родной земле.
«Проблема смысла жизни — одна из центральных в творчестве Б. Екимова. Его герои размышляют о нравственных основаниях человеческого бытия, его истинных и ложных ценностях…
Сопоставление понимания смысла и счастья жизни героями рассказов Б. П. Екимова и современными подростками
Понимание счастья и смысла жизни современными подростками в сравнении с героями рассказов Б. П. Екимова
Для выяснения того, как понимают счастье и смысл жизни современные подростки, в школе №98 был проведен социологический опрос среди учащихся 7-11 классов. В опросе участвовало 118 человек, из них 7-8 классы — 47 человек, 9-11 классы — 71 человек…
Сравнительно-культурологический анализ эпических произведений на материале адыгского эпоса «Нарты» и германского эпоса «Песнь о Нибелунгах»
1.1 Понятие «эпос». Возникновение эпоса и его значение в жизни народа
Слово «эпос» пришло к нам из греческого языка, в переводе с которого оно означает «слово», «повествование». Словарь даёт следующее толкование: во-первых, эпос — «род литературный, выделяемый наряду с лирикой и драмой, представлен такими жанрами…
Субъектно-образная специфика поэзии С.Н. Маркова
1.1 Субъект познания: от антропологической философии к литературоведению
Первоначально субъект рассматривался в качестве логического термина (Аристотель). Онтологическое понимание категории субъекта как субстанции вещи появилось в средневековой схоластике…
Творчество писателя Ивана Мележа
1.2 Истоки арабо-мусульманской философии: античная мысль
Проникновение античной мысли в ближневосточную культуру в доисламский период и влияние ее на становление исламской теологии и философии. Переводческая деятельность. Особенности восприятия античности исламской культурой…
Творчество писателя Ивана Мележа
2. Основные направления арабской философии
Существовали три основные направления в философии:
1. школа мутакаллимов — приверженцы мусульманского схоластического богословия — калама. Различают два основных направления: ашариты (последователей богослова аль-Ашари) и мутазилиты…
Типы смысловых трансформаций при переводе поэзии (на примерах сонетов В. Шекспира)
2.1 Трансформация смысла в поэтическом переводе (на примере сонетов В. Шекспира)
При переводе поэтического текста переводчики пользуются грамматическими и лексическими трансформациями. Искусство переводчика заключается в том, чтобы производить разного рода языковые трансформации там…
Филологический анализ рассказа И.А. Бунина «Тёмные аллеи»
Глава 3. Характеристика используемых в тексте приемов актуализации смысла (выявление текстовых доминант)
Рассмотрим своеобразие лексических единиц и используемых лексических категорий. В тексте использованы обычные лексические средства и категории…
Философское знание в романах Ф.А. Степуна
Глава 2. Письма с фронта как нарративизация философии
нарративизация философский роман степун
Действие романа «Из писем прапорщика-артиллериста» разворачивается вокруг центрального сюжетообразующего мотива войны…
Художественные особенности прозы С.Д. Кржижановского
1. Проблема времени и пространства в философии
Пространство и время считались то объективными характеристиками бытия, то субъективными понятиями, характеризующими наш способ восприятия мира…
Проблема смысла жизни в русской философии
Введение…………………………………………………………
I. Понятие о смысле
жизни…………………………………………………………3
II. Смысл и цель
жизни……………………………………………………………..
III. Поиск смысла
жизни……………………………………………………………7
IV. Проблема реальности……………………………………………………
V. Проблема смысла
жизни……………………………………………………….10
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Вопрос
о смысле жизни хотя бы один раз
на протяжении своего существования
задает себе каждый думающий человек.
Различие между ними составляет лишь постановка
вопроса и то, что каждый конкретный человек
вкладывает в него. Так, например вопрос
о смысле жизни может трансформироваться
в вопрос «что делать?» и тогда, задавая
его по-разному, можно получить большое
количество вариаций формулировок и соответственно,
ответов на него.
О
смысле человеческого бытия, или, говоря
проще, жизни спорят с незапамятных
времен. Многие даже полагают, что вопрос
о смысле жизни не имеет ответа.
Прежде
чем вдуматься, что значит «найти
смысл жизни» необходимо понять, что есть
смысл вообще, определить условия возможности
смысла жизни в частности. Так, например
русский философ Семен Людвигович Франк
предлагает рассмотреть понятие «смысла»
через понятие «разумность». «Разумным
же, в относительном смысле, мы называем
все целесообразное, все правильно ведущее
к цели или помогающее ее осуществить».
Но такая разумность жизни возможно только
при условии, что цель, в свою очередь,
тоже разумна, иначе она представляется
нам абсолютно неразумной и бессмысленной.
Отсюда, по утверждению С. Л, Франка, цель
должна быть разумна в себе, как таковой,
тогда и средство, ведущее к цели, будет
разумно.
Что
имеется в виду под смыслом
жизни? То, что является самым значимым
в жизни человека и выражает его
специфику. С этих позиций становится
понятным, что смысл жизни человека выражается
его ценностями. Смысл человеческого бытия
– это те ценности, которые реализуют
люди в своих поступках. Именно институт
ценностей отличает человека от других
живых существ.
В
своей контрольной работе я постараюсь
раскрыть определение смысла жизни,
а также осветить взгляды на эту
проблему русских философов.
I.
Понятие о смысле жизни.
Смысл
жизни – регулятивное понятие, присущее
всякой развитой мировоззренческой системе,
которое оправдывает и истолковывает
свойственные этой системе моральные
нормы и ценности, показывает, во имя чего
необходима предписываемая ими деятельность.
Подвергая теоретическому анализу представления
массового сознания о смысле жизни, многие
философы исходили из признания некой
неизменной «человеческой природы», конструируя
на этой основе некий идеал человека, в
достижении которого и усматривался смысл
жизни, основное назначение человеческой
деятельности. Отсюда вытекали их представления
о возможности преобразовать мир (в соответствии
с этими идеальными представления) чисто
духовными средствами. Претендуя на универсальность,
эти теоретические истолкования смысл
жизни фактически обосновывали такие
цели и идеалы, в которых выражались интересы
господствующих классов. В ряде современных
социальных теорий смысл жизни по-прежнему
усматривается либо в реализации внеисторических
задач, либо в достижении определенных
потребительских стандартов и индивидуального
благополучия, или же провозглашается
бессмысленность и абсурдность любой
деятельности ввиду отсутствия у нее какой-либо
объективной направленности. Распространены
и теории, отрицающие возможность научно
достоверного ответа на вопрос о смысле
жизни. Согласно марксистской точки зрения,
существование человека определяется
социальными условиями; он является активной
силой, существенным образом влияет на
социальное развитие, ускоряя или замедляя
его. Единство противоположностей личного
и общественного, вернее, их мера, изменяющаяся
на разных этапах истории и в разных общественно-экономических
формациях, и определяет смысл человеческой
жизни, ее ценность. Она не является надличной
или надобщественной, но диалектически
объединяет цели и смысл жизни человека
и общества, которые могут находиться
в непримиримом противоречии или все более
совпадать по мере движения общества к
разумному и гуманному состоянию. Это
движение связано с постоянным изменением
меры личного и общественного, со все более
глубокой индивидуализацией личности
и вместе с тем ее единением с обществом,
его целями и смыслом его существования
и развития. Эта устремленность в будущее
придает смысл и ценность человеческой
жизни, как на индивидуальном, так и на
социальном уровне. Таким образом, подлинный
смысл жизни, «тайна бытия» человека заключены
в содействии разрешению назревших задач
общественного развития, в созидательном
труде, в ходе которого формируются предпосылки
для всестороннего развития личности.
Лишь такая форма жизнедеятельности человека
обладает объективной ценностью и смыслом.
II.
Смысл и цель жизни
Философская
антропология не может обойти вопрос
о смысле и цели жизни. Разные философские
учения отвечают на него по-разному.
Возможно,
больше всех над вопросом о значении
человеческого бытия у его
цели размышлял и мучился Лев
Николаевич Толстой. В результате он пришел
к выводу, что и то, и другое заключается
в самосовершенствовании личности. Вместе
с тем для него было ясно, что смысл жизни
отдельной личности нельзя искать отдельно
от смысла жизни других людей. Однако все
это еще не говорит о том, что Толстой,
в конце концов, разрешил для себя эту
проблему. «Одна тайна всегда останется
для человека, только одна: зачем я живу?
Ответ разумный один: затем, что этого
хочет Бог. Зачем Он этого хочет? Это –
тайна» – таков окончательный вывод Толстого.
Для
того чтобы познать смысл жизни, ответить
на вопрос «для чего мы живем?», необходимо,
видимо, познать и смысл смерти и ответить
на вопрос: «для чего мы умираем?». А этот
вопрос вообще как кажется, лишен смысла.
Думается,
однако, что к решению вопроса
о смысле и цели жизни, как и к самому
этому вопросу, не следует подходить абсолютно
отрицательно, категорически утверждая,
что он сам по себе абсурден. Применительно
к жизни отдельной личности он имеет реальный
смысл и значение. Более того, если бы
каждый человек не отвечал для себя как-то
на этот вопрос, то само существование
человека было бы действительно бессмысленным,
со всеми вытекающими отсюда отрицательными
последствиями. Достоевский по этому поводу
очень хорошо сказал, что без твердого
представления себе, для чего ему жить
человек «не согласиться жить и скорей
истребит себя, чем останется на земле,
хотя бы кругом его все были хлебы».
Безусловно,
правы многие современные философы,
утверждая, что выбор смысла жизни
зависит от многих факторов – объективных
и субъективных. К объективным факторам
следует отнести социально-экономические
условия, сложившиеся в обществе, функционирующую
в нем политико-правовую систему, господствующее
в нем мировоззрение, сложившийся политический
режим, состояние войны и мира и т. д. Значительную
роль в выборе смысла жизни играют и субъективные
качества личности – воля, характер, рассудительность,
практичность т. д.
Определить
личностный смысл жизни – это,
значит, осмыслить жизнь во всей
ее сути и в большем плане, объяснить,
что в ней подлинное, а что мнимое,
определить не только основные задачи
и цели жизни, но и реальные средства их
осуществления. По мнению видного российского
мыслителя С. Л. Рубинштейна, все это бесконечно
превосходит всякую ученость и связано
с драгоценным и редким свойством – мудростью.
Содержание
смысла несводимо к значению понятия,
т. е. к простой репрезентации
предмета в знании. Смысл выражает
не значение, а значимость. «Значение»
отвечает на вопрос: что это? что
это такое? «Смысл» — на вопрос: для
чего? для какой цели? Смысл не только
указывает, но указывает, имея в самом
этом указании некую цель. Человек поэтому,
будучи «символическим животным», всегда
есть смысложизненной существо. Смысложизненность
есть его подлинная природа. Совокупность
жизненных смыслов личности составляет
его мировоззрение. И хотя мировоззрение
не строится по образцу теории как системы
взаимообосновывающего знания, составляющие
его смыслы, в значительной степени, субординированы
в соответствии со значимостью содержащихся
в них целей. Это означает, что они есть
одновременно ценности, как локальные,
так и генеральные. Отнесение к генеральным,
а затем и локальным смыслам есть оценка.
Безоценочное понимание, говорил М. Бахтин,
невозможно.1 Встреча с великим как
с чем-то «определяющим, обязывающим и
связующим» – это высший момент понимания.
И более того, совершенно необходимое
условие жизнедеятельности каждого человека.
Для тех, кто не знает, «№чего он хочет
и что он должен», характерны особые психогенные
неврозы, требующие особых методов лечения,
устраняющих экзистенциальный смысложизненный
вакуум.
Сказанное
о смысложизненной природе
позволяет понять все значение проблематики
смысла жизни человека. Вопрос о
смысле жизни есть вопрос о предназначении
человека. Не о том, почему?, а о том,
для чего? живет человек.
Среди
многих подходов к решению этой сложной
проблемы смысла жизни можно выделить
три главных: смысл жизни изначально
присущ жизни в ее глубинных основаниях;
смысл жизни за пределами жизни;
смысл жизни созидается самим
субъектом. Для всех трех подходов характерно
представление, что жизнь. Как она фактически
есть, бессмысленна.
Для
первого подхода наиболее характерно
религиозное истолкование жизни.
Единственное, что делает осмысленной
жизнь и потому имеет для человека абсолютный
смысл, есть не что иное, как действенное
соучастие в Богочеловеческой жизни. Бог
сотворил человека по своему образу и
подобию. И мы своей жизнью должны проявить
его. Эмпирическая жизнь бессмысленна
так же, как выдранные из книги клочки
страниц бессвязны.
В
основе второго подхода лежит секуляризованная
религиозная идея. Человек способен
переустроить мир на началах добра и справедливости.
Движение к этому светлому будущему есть
прогресс. Прогресс, таким образом, предполагает
цель, а цель придает смысл человеческой
жизни. Критики давно
заметили,
что в рамках этого подхода
будущее обоготворяется за счет настоящего
и прошлого. Прогресс превращает каждое
человеческое поколение, каждого человека,
каждую эпоху в средство и орудие
для окончательной цели – совершенства,
могущества и блаженства грядущего человечества,
в котором никто из нас «не будет иметь
удела» (Бердяев).
В
соответствии с третьим подходом
жизнь не имеет смысла,
проистекающего из прошлого
или будущего, тем более из потустороннего
мира. В жизни самой по себе вообще нет
никакого раз и навсегда заданного, однажды
определенного смысла. Только мы сами
сознательно или стихийно, намеренно или
невольно самими способами нашего бытия
придаем ей смысл и тем самым выбираем
и созидаем свою человеческую сущность.
«Только мы и никто другой», — пишет в своей
книге «Время человеческого бытия» известный
отечественный философ Н. Н. Трубников.
Уязвимая пята этого подхода – релятивизм
и субъективизм.
Если
же говорить о том общем, что можно
обнаружить во всех трех рассматриваемых
выше подходах, то это общее обнаруживает
достаточно сложный состав, оценка которого
не может быть однозначной.
III.
Поиск смысла жизни
Смысл
жизни человека нельзя искать вне
самой его жизни. Это отмечал
еще Гегель: «Все, что я хочу, —
писал он, — самое благородное, самое
святое, есть моя цель; я должен в этом
наличествовать, я должен это одобрять,
я должен находить это хорошим. Со всеми
самопожертвованиями всегда связано чувство
удовлетворения, всегда связано некое
нахождение себя». Правильно определить
смысл своей жизни – это и значит найти
самого себя.
Искание
смысла жизни есть «осмысление» жизни,
раскрытие и внесение в него смысла,
который дан человеку в духовной
деятельности. Точнее говоря, в вере
как в искании и усмотрении
смысла жизни есть две стороны: усмотрение,
нахождение смысла жизни и его «действенное
созидание, волевое усилие, которым оно
восхищается». Попытка осмыслить мир и
жизни осуществима лишь «через отрешения
от мира в смысле превозмогания его притязания
иметь самодовольствующее и абсолютное
значение, через утверждение себя в сверхмирной,
вечной и истинной всеобъемлющей основе
бытия». Осмысление жизни возможно лишь
при отрешении от эмпирического мира и
тогда, «чем глубже человек уходит во внутрь,
тем более он расширяется и обретает естественную
и необходимую связь со всеми остальными
людьми, со всей мировой жизнью в целом».
% PDF-1.2
%
1 0 объект
>
эндобдж
4 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
5 0 объект
>
эндобдж
6 0 объект
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
/ XObject>
>>
/ Аннотации [26 0 R]
/ Родитель 5 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
>>
эндобдж
9 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 30 0 руб.
/ Большой палец 31 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
10 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 33 0 руб.
/ Большой палец 34 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
11 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 35 0 руб.
/ Большой палец 36 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
12 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 37 0 руб.
/ Большой палец 38 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
13 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 39 0 руб.
/ Большой палец 40 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
14 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 41 0 руб.
/ Большой палец 42 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
15 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 43 0 руб.
/ Большой палец 44 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
16 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 45 0 руб.
/ Большой палец 46 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
17 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 47 0 руб.
/ Большой палец 48 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
18 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 49 0 руб.
/ Большой палец 50 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
19 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 51 0 руб.
/ Большой палец 52 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
20 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 53 0 руб.
/ Большой палец 54 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
21 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 55 0 руб.
/ Большой палец 56 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
22 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
>>
/ Содержание 57 0 руб.
/ Большой палец 58 0 R
/ MediaBox [0 0 595 842]
/ CropBox [0 0 595 842]
/ Повернуть 0
>>
эндобдж
23 0 объект
>
транслировать
xX] oF7! & R + 5d]
Ричард Тейлор Смысл жизни — полностью ли субъективен смысл жизни? — Кристофер Клоос, доктор философии
Давайте начнем с мысленного эксперимента.Представьте себе, что гнусный нейробиолог похищает вас, вживляет чип в ваш мозг и стирает вашу память об этом событии. Фишка дает стойкое желание кидать камни в воду.
К счастью, богатый член семьи пожелает вам свою хижину на берегу озера. Вы переезжаете в хижину и проводите дни, делая то, что вам больше всего нравится — бессмысленную деятельность, бросая камни в озеро. Вы живете осмысленной жизнью?
Продолжайте читать, что Тейлор сказал бы об этом деле, или посмотрите видео ниже, чтобы увидеть видеоверсию этого сообщения.
Мы часто считаем само собой разумеющимся, что наша жизнь имеет смысл. Мы можем предположить, что быть хорошим человеком и помогать другим делает нашу жизнь значимой.
Оказывает положительное влияние на мир. Разве это не смысл жизни? Не обязательно.
Волнообразные эффекты наших позитивных действий со временем исчезнут. Большинство наших достижений недолговечны. На самом деле мы делаем кучу вещей в жизни и умираем. Мы оставляем наши владения и проекты следующему поколению. Они подхватывают их и повторяют жизненный цикл.
Легко начать думать о жизни без смысла. На самом деле, Ричард Тейлор считает, что взгляд на бессмысленную жизнь может пролить свет на то, что придает жизни смысл. Вы увидите, как он это делает, буквально через минуту.
При этом он приходит к тезису о том, что смысл жизни чисто субъективен.
Жизнь имеет смысл, основанный на точке зрения предмета жизни. Если у субъекта есть правильно ориентированные желания, которые, по мнению Тейлора, сосредоточены на процессе выполнения вещей, а не на продуктах или достижениях, то жизнь имеет значение для этого человека.И в этом весь смысл жизни. Это полностью исходит из нас.
Теперь посмотрим, как он аргументирует свою диссертацию.
Бессмысленное существование
Тейлор считает, что миф о Сизифе иллюстрирует бессмысленное существование. В отличие от Альбера Камю, Тейлор не занимается переосмыслением первоначального мифа.
Если вас интересует видео, раскрывающее «Миф о Сизифе» Камю, посмотрите видео здесь.
Бессмысленное существование включает в себя бесконечную бессмысленную деятельность — существование, полное активности, которое никогда ни в чем не заканчивается.
Существование человека похоже на залитую пластинку, которая просто повторяет одну и ту же короткую фразу снова и снова.
Сизиф совершил преступления против богов. Они приговорили его к вечности тяжелого и бессмысленного труда. Он должен неоднократно катить тяжелый камень в гору, только чтобы он никогда не достиг вершины. Он падает обратно на дно. Он снова начинает поднимать тяжелый камень.
Возможно, жизнь Сизифа бессмысленна, потому что его жизнь полна физической боли и страданий.Это естественная мысль. Тейлор думает, что это не работает.
Он просит нас рассмотреть что-то вроде эстафеты. Но на самом деле это не гонка. Нет никаких правил. Нет возможности выиграть.
Представьте, что один человек переносит крошечный камень в точку. Другой человек поднимает его. Этот человек переносит это в другую точку. Первоначальный человек возвращает камешек в исходную точку. Цикл начинается снова и повторяется бесконечно.
В этой бесконечной каменной эстафете нет физических страданий.Тем не менее, для Тейлора, если бы это было суммой существования двух людей, их жизни были бы бессмысленными.
Ключ к бессмысленности — наличие бесконечных циклов, которые никогда никуда не денутся. Каждый ход возвращает в цикл возобновленный труд того же рода. Как будто люди — хомяки на колесе, бесконечно крутящиеся, но никуда не движущиеся.
Исходный случай Sisyphus включает в себя бесконечную деятельность, которая лишь усиливает одну и ту же деятельность.
Это вызывает важные вопросы.Чем наша жизнь может отличаться от жизни Сизифа? Как наша жизнь может иметь значение его недостатков? Или наша жизнь так же бессмысленна?
Красивые храмы и светящиеся черви
Наше значение может заключаться в создании красивых и долговечных вещей. Мы часто делаем это с помощью искусства, архитектуры и технологий. Сизиф не создает ничего непреходящего красоты. Тейлор указывает, что если…
… Сизиф возвысит камни на вершину холма и построит красивый и прочный храм, то его деятельность больше не будет бессмысленной.Это к чему-то приведет.
Похоже ли наша жизнь на подлинный сизифов случай или храм, строящий сизифов случай? Тейлор утверждает, что вся творческая жизнь похожа на изначальный случай Сизифа.
Тейлор отмечает, что жизнь в целом бесконечно циклична. Его деятельность подпитывает буквальный жизненный цикл — цикл, предназначенный для увековечения жизни, который заканчивается новой жизнью, повторяющей тот же старый цикл.
Рассмотрим биолюминесцентных пещерных червей.
Эти черви используют свет для привлечения насекомых.Они поедают насекомых. Маленький червяк становится и взрослым. Взрослый человек не может есть, потому что у него нет частей, позволяющих ему есть. Он откладывает яйца и умирает.
Как замечает Тейлор: «Этот бессмысленный цикл длился миллионы лет, и он только питает себя — так что он может продолжаться еще миллион лет».
Подумайте о миграции птиц или трудном путешествии лосося, чтобы отложить икру и вскоре после этого умереть. Эти буквальные жизненные циклы предназначены для производства потомства, которое повторяет тот же цикл.
Как размышляет Тейлор: «Таким образом, эта мировая жизнь предстает перед нашими глазами как огромная машина, которая питается сама собой, вечно бегает в никуда».
Таким образом, жизнь в целом больше всего напоминает оригинальный сизифов случай. Деятельность просто увековечивает то же самое. Живые существа перекатывают свой камень наверх, только чтобы он снова упал, и процесс может начаться снова. Они производят новую жизнь, которая повторяет тот же цикл.
Конечно, люди — часть жизни созданий.Но вы можете подумать, что мы отличаемся от существ ниже по иерархии. У нас есть сознание и способность рассуждать. Мы осознаем свои цели и можем свободно их выбирать. Низшие живые существа действуют в первую очередь инстинктивно. Они не осознают свои цели как цели и не выбирают их свободно.
Тем не менее, несмотря на когнитивные различия, мы тоже похожи на других существ в повторяющейся деятельности, предназначенной для сохранения жизни. Это сближает нас с ними, напоминая изначальный сизифов случай.
Подумайте, насколько однообразна повседневная жизнь. Как замечает Тейлор,
«Посмотрите на оживленную улицу в любой день и обратите внимание на толпу, которая движется туда-сюда. К чему? В каком-нибудь офисе или магазине, где сегодня будут делать то же самое, что и вчера, и делается сейчас, чтобы их можно было повторить завтра ».
Эта деятельность является частью воспитания следующего поколения людей, которые придут на смену. Принимая во внимание, что Сизиф должен спуститься вниз и снова катить камень вверх по холму, мы оставляем камень у подножия холма для следующего поколения.
Как он говорит: «Большая часть таких усилий направлена только на создание и сохранение дома и семьи, то есть на порождение других, которые последуют по нашим стопам, чтобы делать то же самое».
Мы также похожи на настоящего Сизифа в том [показать изображение]: «Наши достижения, даже если они часто красивы, в основном — это пузыри; а те, что остаются, такие как пирамиды, устланные песком, вскоре становятся просто диковинкой, в то время как вокруг них все остальное человечество продолжает вечно тащить грачи только для того, чтобы увидеть, как они катятся вниз.
Наши достижения сводятся к рублю. Они теряют красоту и функциональность. Подумайте о таком городе, как Детройт, где некоторые его части заброшены. Подумайте о городах-призраках: местах, где когда-то кипела жизнь. Теперь осталась оболочка города.
Как незабываемо объясняет Тейлор,
«На проселочной дороге иногда можно встретить разрушенные громадные дома и некогда обширные здания, все в руинах и заросшие сорняками. Любопытный глаз может в воображении реконструировать то, что осталось. когда-то теплая и процветающая жизнь, наполненная целью.
Там был очаг, где когда-то семья разговаривала, пела и строила планы; были комнаты, где любили люди, и у радующейся матери рождались младенцы; есть затхлые остатки дивана, кишащего насекомыми, который когда-то был куплен по дорогой цене для повышения комфорта, красоты и тепла. Каждый маленький кусок мусора наполняет разум тем, что когда-то, совсем недавно, было совершенно реальным,…
… с голосами детей, составленными планами и начатыми предприятиями ».
Тейлор заключает, что люди« действительно добиваются чего-то — они взбирайтесь на свои башни и поднимайте камни на вершины холмов, но каждое такое достижение тускнеет, предоставляя лишь повод для возобновления подобных работ.»
Итак, наша жизнь не похожа на версию этого дела о строительстве храма.
Смысл жизни
Теперь давайте рассмотрим, как Тейлор думает, что жизнь обретает смысл.
В отличие от оригинального дела Сизифа, мы часто заботимся о процесс создания вещей. Сизиф не заботится о том, чтобы катить камень на вершину холма.
Тем не менее, Тейлор поправляет случай. Если мы представим, что Сизифу боги поместили в его вены вещество, которое заставляет его больше всего хотеть катать камни, тогда его жизнь обретет для него смысл.Он будет делать то, что ему больше всего хочется. Если оставить все остальное в кейсе без изменений, не имеет значения, что его каменное движение когда-либо будет иметь какое-либо значение. Версия мифа об исполнении желаний такова, что «его жизнь теперь наполнена миссией и смыслом, и ему самому кажется, что он получил доступ на небеса». Сизиф делает то, что больше всего соответствует его самым сокровенным желаниям в жизни. На сцене появляется смысл.
Его желание катать камни иррационально, но для Тейлора это не имеет значения.Это было результатом того, что в его вены боги в качестве акта милосердия поместили вещество. Его принуждение катать камни не было результатом рассуждений. Это было продуктом чего-то, что отошло в сторону от разума. Тейлор считает, что эта иррациональность не помешает жизни Сизифа иметь для него смысл. Чуть позже мы рассмотрим возражение, касающееся этой части его взгляда на дело «Исполнение желания».
Тейлор считает, что это дело лучше, чем дело о строительстве храма. Для Сизифа это избавляет от бесконечной скуки, когда он строит свой шаблон и застревает в созерцании своего достижения на вечность.Он избегает этой формы ада и вместо этого получает форму рая — жизнь исполнения желаний в форме катания по камню.
Таким образом, для Тейлора смысл жизни состоит в том, чтобы заниматься деятельностью, которую вы хотите выполнять и согласовывать с вашей природой — независимо от того, как она туда попала (т.е. или выбрано после тщательного размышления).
«Смысл его жизни в том, чтобы просто жить так, как это ему свойственно жить». (п.982)
Назад к светлячкам, птицам и лососям
Это значение мы разделяем с другими существами. Светящиеся черви, птицы и лосось, в которых они живут, поддерживают жизненные циклы. Эта деятельность соответствует их природе. Это согласуется с их волей.
Тейлор делает смелое заявление: «Даже светящиеся черви, которые я описал, чьи циклы существования на протяжении миллионов лет кажутся бессмысленными, когда мы их рассматриваем, будут казаться нам совершенно другими, если мы каким-то образом попытаемся рассмотреть их существование. изнутри.Их бесконечная деятельность, которая ни к чему не приводит, — это как раз то, к чему они стремятся. В этом все его оправдание и смысл. Не будет спасением и для птиц, которые ежегодно пересекают земной шар взад и вперед, если для них будет устроен дом в клетке с большим количеством еды и защиты, чтобы им больше не приходилось мигрировать. Это было бы их осуждением, потому что для них важно то, что они делают, а не то, что они надеются этим добиться. Летать на эти огромные, бесконечные расстояния — вот что в их венах, точно так же, как в венах Сизифа катать камни без конца, после того как боги проявили милосердие и имплантировали ему это.
Таким образом, смысл жизни — внутренняя работа. Дело в том, как мы смотрим на вещи, и в наличии правильно ориентированных желаний. Правильно ориентированные желания сосредоточены на деятельности и процессе. Они не сосредотачиваются на достижениях и конечных продуктах. Как незабываемо заключает Тейлор: «Смысл жизни находится внутри нас, он не дарован извне и намного превосходит по своей красоте и постоянству любое небо, о котором люди когда-либо мечтали или к которому стремились».
Возражения + ответы
Есть три возражения против взгляда Тейлора на смысл жизни, которые мы рассмотрим.Первое возражение состоит в том, что это мнение слишком субъективно. Второе возражение направлено на предположение о хорошей жизни, лежащее в основе его взглядов. Третье возражение состоит в том, что для осмысленной жизни требуется свобода воли, и точка зрения Тейлора чрезмерно обобщается в отношении существ, которые не действуют свободно.
Возражение 1. Взгляд слишком субъективен
Первое возражение побуждает таких философов, как Сьюзан Вольф и Кристин Витрано, добавить объективный элемент к своему взгляду на смысл жизни.Простое изменение взгляда человека на бессмысленную деятельность не отменяет того факта, что эта деятельность по-прежнему бессмысленна. Оно ни к чему не приводит и не имеет ценности, превышающей значение, присвоенное ему субъектом.
Вся история о смысле жизни не может быть такой, как считает Тейлор.
Чтобы в этом убедиться, вернемся к делу, с которого началось это видео. Человеку, которого похищают и имплантируют чип, который вызывает у нее желание бросать камни в воду, предоставляется, как сказал бы Тейлор, вход в рай.Жизненные обстоятельства наделяют ее способностью бесконечно исполнять свои самые сокровенные желания. Она может сидеть у озера и бросать в озеро камни.
Тем не менее, интуитивно понятно, что жизнь, состоящая только из бросания камней в озеро, не имеет смысла. Деятельность, которая исполняет ее желания, не способствует ее общине, семье или обществу. Это не имеет объективного значения. Оно не имеет ценности, превышающей ценность, которую придает ему субъект.
Как вы думаете? Должно ли исполняемое желание включать в себя деятельность, которая имеет объективный смысл? Или даже бессмысленная деятельность, направленная на удовлетворение чьего-либо желания, может привести к полноценной жизни?
Возражение 2: взгляд на хорошую жизнь проблематичен
В основе взгляда Тейлора на смысл жизни лежит взгляд на хорошую жизнь.Что делает жизнь человека успешной? Что способствует ее благополучию?
Для Тейлора это вопрос получения желаемого. Это вопрос исполнения желаний, когда эти желания сосредоточены на выполнении вещей, которые соответствуют тому, что вы от природы склонны делать.
В теории исполнения желаний хорошей жизни хорошо то, что она объясняет многие способы хорошей жизни. Возможно, я захочу тренировать бейсбол. Возможно, вы захотите приготовить десерты. Другой человек может захотеть написать романы.Пока наши желания исполняются, мы все живем хорошей жизнью — жизнь у нас идет хорошо. Но есть много возражений против этой теории. Я упомяну один.
Одно возражение заключается в том, что мы часто ошибаемся относительно того, что для нас хорошо. У нас часто бывают ошибочные желания.
Если я хочу стать известной рок-звездой, потому что я ошибочно верю, что они живут беззаботной жизнью, тогда, когда я становлюсь рок-звездой и обнаруживаю все давление и стресс, которые с этим связаны, мое желание действительно исполнилось. моя жизнь идет хорошо для меня? Я хотел беззаботной жизни.Теперь на меня оказывают давление мой лейбл, фанаты, мой менеджер и так далее.
Как Тейлор мог бы ответить на это возражение? Тейлор может потребовать, чтобы его желания были проинформированы. У меня было ложное убеждение, которое очаровывало образ жизни рок-звезд. Если бы я был лучше осведомлен о том, каково на самом деле быть известной рок-звездой, я бы увидел, что то, что я считаю хорошим для себя, на самом деле плохо для меня.
Если Тейлор сделал этот ход, он бы обязался выполнить следующее:
(C) Если что-то соответствует нашим осознанным желаниям (т.е., те, которые не основаны на ложных убеждениях), то это по своей природе хорошо для нас; Если это помогает нам выполнять наши осознанные желания, то инструментально это хорошо для нас.
Однако у этого нового принципа есть проблемы. Если вы хотите о них услышать, оставляйте в комментариях «осознанные пожелания». Таким образом, взгляд на то, что заставляет жизнь идти хорошо, лежащий в основе взгляда Тейлора на смысл жизни, не лишен проблем.
Возражение 3: воззрение чрезмерно обобщает, применяя к существам, лишенным свободы воли
Последнее возражение, которое мы рассмотрим, состоит в том, что воззрение чрезмерно обобщает.Это касается светлячков, птиц, лосося и иррационального желания, исполняющего Сизифа. Для Тейлора все они живут значимой жизнью. То, что его мнение применимо к таким созданиям, должно заставить нас задуматься.
Что может объяснить, почему его точка зрения слишком обобщена? Это относится к существам, которые не действуют свободно. Чтобы действовать свободно, необходимо иметь возможность действовать по разумным причинам. Это требует способности видеть в чем-то причину, чтобы что-то сделать. Это требует возможности решить что-то сделать на основании этой причины.Если у существа не хватает познавательной способности оценивать причины как причины или если его заставляют действовать компульсивно для удовлетворения иррациональных желаний, то это существо или человек не действуют свободно.
Черви, птицы и лосось не обладают познавательной способностью действовать на основании причин в требуемом смысле. И иррациональное желание, исполняющее Сизиф, действует на основании причин, которые обходят его рациональные возможности. Он делает то, что делает, потому что вещество попало в его вены, а не потому, что он считает рок катание причиной катания камней для удовлетворения своего желания.
Почему деятельность, которая вносит вклад в смысл жизни, требует свободного выполнения этой деятельности?
Представьте себе робота, выполняющего свою программу. Живет ли робот осмысленной жизнью, потому что он делает то, на что он был запрограммирован? Что вы думаете? Я хотел бы услышать твои мысли.
Я считаю, что у роботов нет смысла жить. Придавать им значение категориальная ошибка. Точно так же я не думаю, что светлячки, птицы или лосось живут осмысленной жизнью. Они просто делают то, на что их запрограммировал инстинкт.Нет смысла говорить о том, что их жизнь значима для них изнутри.
Подумайте, когда Тейлор говорит: «Даже светящиеся черви, которые я описал, чьи циклы существования на протяжении миллионов лет кажутся бессмысленными, когда мы смотрим на них, будут казаться нам совершенно другими, если мы сможем каким-то образом попытаться взглянуть на их существование изнутри. . » Придавать субъективное значение светлячкам — категориальная ошибка. На что будет похоже, если светящийся червь будет считать, что его жизнь идет хорошо? Если оставить в стороне тот факт, что светлячки вряд ли обладают сознанием, ясно, что им не хватает познавательной способности действовать по определенным причинам.Странно даже говорить о том, что желания светлячка исполняются.
Вдобавок, мысль Тейлора о том, что исполнение желаний Сизиф воплощает в себе то, что необходимо для полноценной жизни, должна заставить нас задуматься. Сизиф бесконечно выполняет то, что ему навязчиво манипулируют. Многие философы думают, что компульсивное действие на основе иррациональных желаний подрывает свободу, и многие философы считают, что подрывным агентом манипулируют с целью сделать что-то, это подрывает свободу.Это также может подорвать моральную ответственность за наши действия, поскольку свобода воли является требованием моральной ответственности.
Таким образом, смысл жизни требует умения действовать свободно и нести моральную ответственность за то, что вы делаете.
Критически оцените диссертацию — что вы думаете о диссертации и почему?
— Считаете ли вы аргументы в пользу тезиса убедительными? Почему или почему нет?
— Если бы тезис был верным, какое из ваших убеждений пришлось бы изменить?
— Считаете ли вы три возражения против точки зрения Тейлора убедительными? Почему или почему нет?
— Как Тейлор может ответить на любое из этих возражений? Как бы вы ответили на его ответ?
Специальный бонус: Проведите эксперимент в жизни — как вы могли бы творчески испытать тезис Тейлора в своей жизни?
Философ Джон Стюарт Милль думал, что мы узнаем о добре, проводя «живые эксперименты».Философ Элизабет С. Андерсон резюмирует позицию Милля: «Представления о добре должны проверяться опытом, который мы получаем, воплощая их в жизнь, а не просто сравнивая их с этическими интуициями». Одно дело — консультироваться со своей интуицией в отношении случаев, когда критически оценивают смысл жизни. И все же другое дело — проверить эту теорию на практике.
Специальным бонусом является руководство по проверке точки зрения Тейлора. Обдумайте следующие вопросы:
— Думая о взгляде Тейлора как о предложении эксперимента в жизни, как вы могли бы изменить свой подход к своей жизни, применив точку зрения Тейлора? Спросите себя, какой должна быть моя жизнь, чтобы она имела смысл?
— Если предположить, что субъективное мнение Тейлора о смысле жизни было правильным, какое из ваших убеждений необходимо изменить? Как такое изменение может повлиять на ваши действия?
— Учитывая, что мы можем оценивать и отклоняться от желаний, ориентированных на процесс, мы склонны перекладывать наши желания на конечный продукт и преследовать блестящие отвлекающие факторы, «наш глубокий интерес к тому, что мы делаем», ослабевает и ослабевает.При этом меняется и наш смысл жизни.
— Как вы могли бы жить осмысленной жизнью, отражающей глубокий интерес к тому, что вы делаете? Как это может соответствовать вашим природным склонностям и страстям?
Эвиементистский взгляд на смысл жизни
Что делает жизнь значимой? На этот вопрос предлагается много ответов. Некоторые утверждают, что Бог необходим для осмысленной жизни; некоторые утверждают, что необходимы объективно реализуемые проекты; некоторые утверждают, что удовлетворения желаний достаточно; а некоторые утверждают, что ничто не может сделать нашу жизнь значимой.В сегодняшнем посте я хочу взглянуть на ответ Стивена Лупера на этот вопрос.
Люпер защищает то, что он называет «эмпирическим взглядом» на смысл жизни. Согласно этому, смысл зависит от достижения нами определенных целей. Это в высшей степени субъективистская теория значения, которая отличает значение от других связанных свойств, таких как «цель» и «благополучие». Он также подчеркивает связи между смыслом и, казалось бы, несвязанными свойствами, такими как «идентичность».
Далее я обрисовываю основные составляющие теории Лупера.Я вообще воздерживаюсь от излишне критических комментариев. Меня в первую очередь интересует просто изложение теории и получение отзывов от читателей, а не ее критика. Это потому, что я нахожу эту теорию одновременно сбивающей с толку и интригующей. Я нахожу это недоумением, потому что, кажется, противоречит нескольким очевидным возражениям. Но я, тем не менее, заинтригован, потому что Лупер хорошо осведомлен об этих возражениях и уверенно отмахивается от них.
Следовательно, мне остается только гадать, есть ли в теории нечто большее, чем кажется на первый взгляд.В частности, мне остается только гадать, действительно ли он точно отражает то, как значимая жизнь выглядит «изнутри», то есть с точки зрения того, кто ею живет. Я должен добавить, что меня также интересует теория, потому что она предполагает, что определенные формы технической помощи могут фактически подорвать значимость нашей жизни.
Я основываю это обсуждение на вкладе Люпера в Cambridge Companion to Life and Death .
1.Краткий обзор точки зрения сторонников достижений
Взгляды сторонников достижений, по крайней мере, как ее определяет Лупер, основаны на двух ключевых идеях:
Тезис о всей жизни : Значение имеет вся жизнь человека в целом, а не только ее отдельные части или аспекты.
Эмпирический тезис : Смысл всей жизни придает то, достиг ли он своих целей.
Первый из них интересен тем, что отрицается другими.Некоторые думают, что смысл возникает из определенных моментов или временных отрезков жизни. Некоторые считают, что необходимо сочетание того и другого. Например, Таддеус Мец в своей недавней книге о смысле жизни утверждает, что и вся жизнь, и отдельные ее части составляют ее значимость. Какими бы интересными ни были эти дискуссии, они не должны нас сильно беспокоить здесь (кроме как в конце, когда мы смотрим на некоторые аргументы в пользу абсурдности жизни).
Это второй тезис, который является важным.Он утверждает, что для того, чтобы иметь смысл, у человека должен быть жизненный план: набор согласованных целей или целей, которых он желает достичь. Только если эти цели будут достигнуты, человек будет жить осмысленной жизнью. Лупер непреклонен в том, что это очень отличается от теории смысла исполнения желания. Можно добиться исполнения своих желаний, на самом деле ничего не достигнув.
Рассмотрим простой пример. Одно из моих желаний — посмеяться и хорошо провести время. Посещение стендап-комика Луи С.К. могло позволить мне сделать и то, и другое.Но это не означало бы, что у меня было достижений этих желаний. На самом деле как раз наоборот. Это другая сторона — в данном случае Луи С.К. — выполняет за меня всю работу по исполнению желаний. Я просто пассивный получатель и бенефициар его достижений.
Достигающий отвергает эту пассивную модель. Чтобы достичь своих целей, необходимо активное участие в задаче, подобное агентству. Так, например, предположим, что одна из моих целей — стать полностью самодостаточным в производстве и поддержании собственного продовольственного снабжения.Я выхожу и покупаю необходимых животных и семена растений. Я выкапываю свою землю, сажаю семена, оставляю дома и кормлю животных, ухаживаю за ними как в хорошие, так и в плохие времена. В конце этого процесса можно сказать, что я чего-то добился. Если я просто найму другого человека для выполнения всей работы, я ничего не добьюсь.
Я нахожу этот взгляд особенно интересным в свете (возрастающей) роли технологий в содействии осуществлению наших желаний. На данный момент эта роль все еще ограничена. Спутниковая навигационная система поможет мне добраться до места назначения, но пока я все еще за рулем.Таким образом, на данный момент я все еще играю активную роль в достижении своей цели попасть в это место. Но что, если технологии полностью возьмут верх? Что, если у каждого из нас есть команда роботов-помощников, способных удовлетворить все наши желания? Будет ли это лишить нас смысла жизни? Если верить взглядам достижений, так оно и будет. Возможно, нам следует остерегаться этого.
2. Достижения и цели
Концепция достижения тесно связана с концепцией цели.Цель представляет собой какой-то объект или конец жизни; достижение — это цель или цель, придающая значение. Тем не менее, цели отличаются от достижений.
Одна из основных причин этого заключается в том, что «цель» имеет слабый «экстерналистский» или «объективистский» оттенок. Другими словами, люди часто говорят о цели жизни, когда имеют в виду что-то внешнее и большее, чем сам агент. Лупер отвергает любые попытки свести взгляды к достижению цели к таким объективистским взглядам.Для него цели, лежащие в основе взглядов достижений, зависят от целей, поставленных перед собой.
Возникает очевидный вопрос: может ли кто-нибудь (например, Бог) диктовать вам то, что делает вашу жизнь значимой? Другими словами, может ли другой агент ставить перед вами цели и может ли достижение этих целей придать смысл вашей жизни? Ответ Лупера содержит нюансы (и я полагаю, что он религиозно агностический). Он отвергает мнение Курта Байера о том, что цели, поставленные Богом, превращают нас в простые инструменты или инструменты в Его собственном жизненном плане.Вместо этого Лупер думает, что мы могли бы значимо стать частью жизненного плана другого существа. Но это потребует совместного планирования. Наши достижения могут включать работу с сообществом единомышленников. Тем не менее, по мнению Лупера, мы всегда являемся привратниками собственного смысла. Мы всегда должны играть активную роль в принятии решений, каковы будут цели нашей жизни.
3. Значение и идентичность
Существует также тесная и важная связь между смыслом и идентичностью, но не в том смысле, в котором «идентичность» обычно обсуждается философами.Как это обычно обсуждается философами, концепция идентичности понимается в терминах числовой идентичности , то есть в терминах того набора свойств (если таковые имеются), который позволяет утверждать, что «я» — это то же лицо, что и Я был пять лет назад. Эта концепция идентичности не имеет прямого отношения к проблеме значения, за исключением того ограниченного смысла, в котором существование во времени может быть важным для наших достижений.
Однако есть еще одна концепция идентичности, которая имеет важное значение для вопроса значения.Чтобы избежать путаницы, Люпер вводит новый ярлык для этой концепции — критического идентификатора . Это набор личных качеств, которые делают нашу жизнь достойной жизни. Точнее, это набор из критических характеристик , то есть личных свойств, потеря которых сделает нас безразличными к нашему дальнейшему выживанию.
Люпер разбивает эту концепцию критической идентичности на несколько частей. В частности, он выдвигает на первый план понятие условной идентичности, идентичности, которую мы принимаем, которая дает цель и направление нашей жизни (как того требует точка зрения достижений).Конативная идентичность важна для значения, но это не единственное, что имеет решающее значение. Культивирование моральной идентичности также может иметь решающее значение, поэтому Лупер оставляет дверь открытой для подобных возможностей в своем описании критической идентичности.
Для Лупера важно то, что критическая идентичность — это не то, с чем мы рождаемся, и не то, что мы обязательно приобретаем. Это то, что нам нужно время, чтобы развить, и мы должны принять решение. Следовательно, по его мнению, возможно жить совершенно бесцельной и бесцельной жизнью, полностью лишенной смысла или критической идентичности.Более того, с его точки зрения «мы» — в смысле наших численно идентичных «я» — возможно пережить утрату нашей критической идентичности. Но для Лупера эта потеря будет феноменологически эквивалентна нашей смерти: как только мы теряем нашу критическую идентичность, мы теряем волю к жизни.
4. Смысл и благополучие
Часто ощущается тесная связь между смыслом и благополучием. В самом деле, некоторые теоретики думают, что смысл сводится к благополучию.Люпер призывает нас сопротивляться этому сокращению. Вместо этого он утверждает, что между смыслом и благополучием есть важные различия.
Он иллюстрирует это, обращаясь к одной из основных (но не единственных) составляющих нашего благополучия, а именно: к нашему счастью. Это часто интерпретируется с точки зрения нашего осознанного удовольствия или развлечения. Это одна из вещей, которые по своей сути полезны для нас. Конечно, может быть много других вещей, которые по своей сути полезны для нас. А наше благополучие будет определяться нашей долей в этом общем наборе действительно хороших (для нас) вещей.Но пока мы сосредоточимся на примере счастья, потому что все, кажется, согласны с тем, что даже при наличии других внутренних благ, счастье должно быть частью общей картины.
Люпер признает, что достижения и внутренние блага часто идут рука об руку, поэтому так заманчиво сводить смысл к благосостоянию. Но есть как минимум два важных различия. Во-первых, значение не является суммативным в том же смысле, что и благосостояние. Вообще говоря, при прочих равных условиях лучше иметь больше благосостояния, чем меньше.Другими словами, чем больше счастливых переживаний вы добавите в свою жизнь, тем больше будет благополучия в жизни. Но достижение придает смысл жизни, даже если у человека, чья жизнь на нем висит, была всего одна цель, которую нужно было достичь. Количество не имеет значения.
Другое важное различие связано с очевидным потенциалом расхождения смысла и благосостояния. Например, по мнению Лупера, можно жить жизнью, полной благополучия и счастья, но без достижений.Лупер считает, что нам следует избегать такой жизни. Он утверждает, используя машину опыта Нозика в качестве отправной точки, что смысл — большее благо, чем счастье. Он также утверждает, что, хотя для того, чтобы сделать жизнь достойной жизни, может потребоваться определенная минимальная степень счастья, нам будет лучше, если мы будем стремиться к счастью косвенно, преследуя свои цели. Ведь зачастую наибольшее удовлетворение мы испытываем в достижении наших целей.
Мы также должны принять два нежелательных вывода из точки зрения достижений.Во-первых, это позволяет вести осмысленную жизнь очень несчастливой (как упоминалось выше). Во-вторых, это позволяет значимой жизни быть частично злой. Этот второй подтекст интересен. Это следует потому, что с точки зрения достижений, все, что имеет значение, — это достижение наших самоуправляемых целей. Эти цели могут включать в себя уклонение от выполнения наших моральных обязательств и обязанностей. Лупер иллюстрирует жизнь Пола Гагина, известного художника, который уклонился от своих обязательств перед женой и семьей, переехав на Таити, чтобы рисовать.
5. Смысл и абсурд
Обычным камнем преткновения в дебатах о смысле жизни является вера в то, что ничто не может дать нам смысл; что наша жизнь в корне абсурдна. Лупер выделяет две отдельные линии аргументов, лежащих в основе абсурдистского случая, и утверждает, что сторонник достижений может сопротивляться обоим.
Первый аргумент — аргумент от хрупкости или ненадежности. Это проистекает из наблюдения, что наша жизнь слишком хрупка, чтобы сохранять смысл.У нас может быть столько целей или проектов, сколько мы живем, но все они могут быть уничтожены в одно мгновение. Лупер приводит острый пример детей, которые были навсегда погребены лавой, вытекающей из извержения Везувия в 79 году нашей эры. Но это просто пронзительный пример. В каком-то смысле мы все живем в тени вулкана: скованы, ограничены и, в конечном итоге, уничтожены факторами, не зависящими от нас. Конечно, сила этих факторов может со временем увеличиваться и уменьшаться, но они всегда присутствуют.
Люпер считает, что достижения хрупкости легко обойти. Опять же, с точки зрения достижений важно то, что наши самостоятельные цели достигнуты. Все, что нам нужно сделать, это оградить эти цели от ограничений и ограничений, с которыми мы сталкиваемся. Таким образом, мы можем выбрать скромные цели, соответствующие нашим конкретным обстоятельствам, и сосредоточиться на них. Значимость нашей жизни не уменьшится.
Этот ответ вызывает еще одно беспокойство. Кажется, что это позволяет считать значимыми чрезвычайно скромные или тривиальные цели.Например, человек, чей жизненный проект состоит в том, чтобы подсчитать все песчинки на определенном участке пляжа, с этой точки зрения может жить осмысленной жизнью (при условии, что цель достигнута). Но это кажется неправильным. Многие думают, что одни цели сообщают смысл, а другие — нет. Если быть точным, они думают, что нужно преследовать объективные цели, чтобы жить осмысленной жизнью. Эту точку зрения разделяют многие ведущие современные теоретики значения, например Сьюзан Вольф, Таддеус Мец, Аарон Смэтс и Эрик Виленберг.
Люпер отвергает их теории, утверждая, что объективистскую точку зрения «трудно защитить» (он никогда не говорит почему). Он также пытается нейтрализовать проблему, утверждая, что даже если это правда, что тривиальные цели основываются на взглядах достижений, люди, которые думают о своих жизненных планах и пытаются создать критическое «я», в любом случае будут стремиться к более серьезным целям. Таким образом, похоже, что Лупер пытается сделать это обоими способами: объективно ценные цели ему не нужны, но их, как правило, преследуют те, кто серьезно к ним относится.Я считаю это проблематичным.
Второй аргумент, принятый абсурдистом, — это аргумент конечности или смертности. Это проистекает из общей озабоченности конечностью нашей жизни; что наши цели, даже если они достигнуты, не будут постоянными; и эта постоянство необходима, чтобы сделать нашу жизнь осмысленной. Это распространенное среди верующих вера. Неудивительно, что Лупер отвергает это. Частично причина этого в том, что спор может возникнуть исключительно из-за того, что у нас ошибочные цели или задачи, такие как цель постоянства или бессмертия.Поскольку этого невозможно достичь, мы должны отбросить их и сосредоточиться на достижимых вещах. Они придадут нам необходимую значимость.
Люпер признает, что продолжительность жизни может иметь влияние на смысл. Чем короче время, тем меньше возможностей для достижения. Тем не менее, он считает, что влияние смертности на благополучие и счастье более значимо. Как уже отмечалось, эти товары имеют тенденцию быть суммативными: чем больше, тем лучше. И конечность определенно влияет на количество положительных впечатлений, которые мы можем получить.
Один заключительный момент вытекает из этого обсуждения смертности и смысла. Лупер отмечает, что многие люди чувствуют , что их жизнь становится менее значимой по мере приближения призрака смерти, и они эмпирически погружаются в процесс умирания. Не желая отрицать реальность этих субъективных переживаний, он утверждает, что теория достижений сопротивляется любым утверждениям о том, что жизнь менее значима в результате этих переживаний. Для деятеля достижений имеет значение, были ли достигнуты цели на протяжении всей жизни человека (тезис о всей жизни).Эти достижения не уменьшаются процессом смерти.
6. Заключение
Хорошо, на этом мы подошли к концу этого краткого обзора взглядов достижений. Как видите, он предлагает в высшей степени субъективистскую теорию смысла жизни. Он утверждает, что смысл полностью определяется достижением самостоятельных целей. Эти цели могут быть банальными, эгоистичными и даже отчасти злыми. Это не имеет значения. Важно только то, что преследующий их субъект считает их стоящими своего времени.
Именно этот последний момент заставляет меня задаться вопросом, отражает ли теория Лупера, что значит жить осмысленной жизнью «изнутри». Может быть, это то, чем пренебрегают более распространенные объективистские теории?
Единственный вопрос, который раскроет истинный смысл вашей жизни
Каждый приходит в восторг, когда встает на путь, ведущий к своей мечте всей жизни. Определение вашего личного вероучения поможет вам не сбиться с пути. Вот почему первым шагом всегда должно быть определение тех основных ценностей и убеждений, которые отражают ваш моральный компас.Они отмечают ваши личные границы — плечи на пути к успеху.
Даже с установленными границами маршрут может потемнеть, особенно когда все идет не так, как планировалось. Как бороться с этим надоедливым препятствием? Ответ стар, как сам Аристотель.
Вообще-то он старше.
Эти два слова содержат секрет того, как получить все, что вы хотите: «Познай себя»
Это одни из слов, высеченных на камне в храме Аполлона в Дельфах.Они стали движущей силой Сократа, величайшего из всех греческих философов. Он пропитал ее урок в самой душе всех своих учеников, включая не менее известного Платона. Платон, в свою очередь, открыл эти секреты своему ученику Аристотелю.
Вы вернетесь к нему через мгновение.
Но сначала подумайте, что на самом деле означает «познай себя». По сути, эта фраза говорит об основной причине вашего существования. Он олицетворяет вашу цель, причину, по которой вы находитесь здесь, прямо сейчас.
Это не что иное, как смысл вашей жизни.
Ваша цель проистекает из ваших основных ценностей и убеждений. Вот почему вы должны сначала обрисовать свое личное кредо, прежде чем приступить к задаче раскрытия смысла своей жизни.
Ваша цель подобна путеводной звезде. Он освещает путь, который вы должны предпринять, чтобы осуществить свою мечту всей жизни. Помните, как неудачи могут омрачить этот путь? Целеустремленность держит свет на вашем пути, независимо от того, какие пращи и стрелы возмутительная удача решит бросить в вас.
Но ваша цель — это не просто путеводная звезда, но и недостижимая звезда. Вы всегда к этому стремитесь. Тем не менее, вы никогда не сможете полностью уловить это. Таким образом, он служит вдохновляющим и вдохновляющим идеалом для всей вашей жизни.
Вы, наверное, сейчас спрашиваете очевидное: как мне узнать свою цель? Как мне узнать смысл моей жизни?
Это сложно, но легко. Это легко, но это сложно.
Если вы действительно хотите «познать себя», вы обязательно должны копнуть глубоко в своем сердце.
Сократ сказал: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить». Затем он продемонстрировал метод исследования вашей жизни. Только удалив все эти слои, покрывающие ваше внутреннее ядро, вы сможете раскрыть свою истинную цель — смысл своей жизни.
Прежде чем изучать простой трюк Сократа, вам нужно начать с нуля. Для этого вам необходимо обратиться к Аристотелю.
Аристотель считал, что конечная цель человека — «вести хорошую жизнь». Но это слишком элементарно. В конце концов, что такое «хорошая» жизнь?
Да, вот в чем загвоздка.
Во-первых, плохие новости. У каждого человека есть уникальное и в высшей степени персонализированное определение «хорошей» жизни.
А теперь хорошие новости. Это означает, что нет правильного или неправильного ответа. Вы можете придумать собственное определение, наиболее подходящее для вас. Помните, это уже в вас. Он был там всю вашу жизнь. Просто нужно его извлечь.
Вот тут-то и появляется Сократ. Сократ имел ужасную склонность задавать надоедливые вопросы… неоднократно. Чтобы найти смысл своей жизни, вам нужно подражать Сократу.Да, было бы проще, если бы у вас был тренер, который разыграл бы Сократа по ролям, но это не обязательно. Вы можете сделать это сами.
Вот как:
Сначала вытащите чистый лист бумаги (или пустой документ для печати). Если вы хотите получить максимальную отдачу от этого упражнения, вам нужно будет записать свои ответы (по порядку) на вопросы, которые будут задаваться.
Начните с вашей основной цели: жить хорошей жизнью.
А теперь как можно более кратко запишите, почему вы считаете важным жить хорошей жизнью.
Записав это утверждение, прочтите его еще раз. Затем запишите свой ответ на вопрос: Почему это утверждение важно?
Прочтите это второе заявление еще раз. Затем запишите свой ответ на этот вопрос: Почему это второе утверждение важно?
Прочтите это третье заявление еще раз. Затем запишите свой ответ на этот вопрос: Почему важно это третье утверждение?
Прочтите это четвертое заявление еще раз. Затем запишите свой ответ на этот вопрос: Почему это четвертое утверждение важно?
Прочтите это пятое заявление еще раз.Затем, наконец, запишите свой ответ на вопрос: почему это пятое утверждение важно?
Теперь взгляните на все шесть ваших утверждений. Вы замечаете какие-нибудь закономерности? Вы замечаете какое-нибудь сходство? Вы вернулись и повторили ответ?
Ответы на эти вопросы раскроют смысл вашей жизни. В частности, если вы вернулись и повторили, ответ, который вы написали непосредственно перед тем, как вернуться, вероятно, будет очень близок к вашему истинному смыслу жизни.
После того, как этот анализ будет завершен, обобщите ответ в заключительном заявлении, которое начинается: «Моя цель -…»
Если это читается как эпитафия (но не совсем как), значит, вы ее поняли. Изложение вашей цели должно объяснять, как вы хотели бы повлиять на свою семью, друзей и сообщество. Точно так же он должен отражать то, как вы хотели бы, чтобы ваша семья, друзья и общество видели и запомнили вас.
Ваша цель — идеал, к которому вы всегда будете стремиться.Это мотивация, которая заставляет вас хотеть быть лучше, чем вы были накануне. Это открытое сердце, которое вы с гордостью создаете и помещаете на каминную полку, чтобы все могли видеть — ваши дети, ваша семья, ваши коллеги…
Но это еще не все.
Как только вы поймете смысл своей жизни, вы захотите что-то сделать с этим знанием.
Что-то большое.
Что такое истинный смысл жизни? Поиск своей цели в жизни от Создателя жизни
Мы, люди, рождаемся в этом мире, не зная точно, кто мы ( идентичность ), откуда мы ( происхождение ), почему мы здесь ( означает ), для чего жить и как мы должны живем ( цель ) и куда идем ( судьба ).
Вопрос о смысле жизни поднимался в каждом поколении и исследовался на протяжении всей истории. У разных людей и культур были разные взгляды на этот вопрос. Наше понимание смысла жизни важно, потому что оно формирует наш образ жизни.
Светские и христианские взгляды на смысл жизни
Итак, в чем же суть жизни? Любовь. Богатство. Счастье. Саморазвитие. Мудрость. Влиять. Услуга. Это некоторые популярные ответы, которые мы, возможно, слышали, и, хотя некоторые взгляды имеют библейское значение, может ли жизнь иметь более глубокий смысл?
Предположим, что жизнь состоит из всего вышеперечисленного. Будет ли кто-то действительно удовлетворен, достигнув всех этих хороших вещей (Матфея 16:26)? А как быть с людьми, которые, к сожалению, не смогли поступить так же? Например, жертвы войны, жертвы стихийных бедствий, мертворожденные дети и т. Д.- было ли справедливо заключить, что их жизни просто бессмысленны? Конечно, нет. Тот факт, что кто-то сделал (или сделал) больше хороших вещей в жизни, не обязательно означает, что его жизнь более значима, чем у тех, кто этого не делает. Больше удачи — это не просто больше смысла.
Автор считает, что прежде чем мы исследуем смысл жизни, нам нужно сначала принять чудо жизни. Наука доказала существование Создателя. Обширность вселенной, чудеса природы, сложность живых организмов — все свидетельствует о том, что должен быть в высшей степени разумный Создатель, который все точно расставит по порядку.
В свете этого жизнь не может быть бессмысленной — и она должна вращаться вокруг Создателя всего (Иоанна 1: 3). Поэтому настоящий смысл жизни следует рассматривать через призму Животворца и искать в нем.
Смысл жизни в Библии
Царь Соломон: бойся Бога и соблюдай Его заповеди. Соломон, сын Давида и царь Израиля, описывается как самый богатый и мудрый человек своего времени (3 Царств 3: 12-13). Тем не менее, несмотря на всю силу и удовольствия, которые он имел, он чувствовал пустоту, и все казалось бессмысленным.
Он признал, что есть что-то помимо земной жизни, что Бог вложил в человеческое сердце, и что Бог-Творец всегда все контролирует, даже если никто не может полностью понять Его работу (Экклезиаст 3:11).
Он также подразумевал, что жизнь может означать наслаждение даром Божьим (Экклезиаст 3: 12-13), и, в конце концов, в жизни важно наше благоговение и послушание Богу, потому что Его суд верен (Екклесиаст 12: 13-14) .
Иов: Надейся на Бога, несмотря ни на что. Иов был одним из самых преуспевающих людей в Библии, известным своим жизненным примером безупречного, искреннего человека, который страдал. Он, возможно, тот человек, который прошел через самые высокие «взлеты» и «минимумы» в жизни, наслаждаясь, а затем потеряв семью, здоровье и богатство. Среди своих страданий Иов отчаянно проклял свое рождение (Иов 3), но он все еще верил в искупительную силу Бога (Иов 19:25).
После всех болезненных переживаний глаза Иова открылись, чтобы узнать Бога лично.Его отношения с Богом были обновлены (Иов 42: 5), и «Господь восстановил его состояние и дал ему вдвое больше, чем он имел прежде» (Иов 42:10).
Через жизнь Иова мы можем узнать о верховной власти Бога над страданиями Его святых. «Жизнь для Иова» может означать путешествие, в котором нужно познать Бога и доверять Ему в каждый момент, особенно в самые темные моменты.
Иисус Христос: Ищите и спасайте заблудших. Иисус Христос пришел в этот мир с ясной миссией: искать и спасать грешников (Луки 19:10).Иисус — это сам Бог, живший на земле в человеческом теле (Колоссянам 2: 9-10), и он единственный посредник между Богом и людьми (1 Тимофею 2: 5). Он определил себя как путь [к Небесному Отцу], истину и жизнь; и ясно указывало, что знать его равносильно познанию Самого Бога (Иоанна 14: 6).
Хотя его жизнь была относительно короткой (около 34 лет), его влияние чрезвычайно несравнимо, потому что он посвятил свою жизнь исполнению воли Божьей, завершив дело искупления на кресте (Иоанна 4:34, 19:30).
Иисус — Сын Человеческий, пришедший служить и отдать свою жизнь за спасение человечества (Марка 10:45). Цель его жизни — дать нам жизнь с избытком в Нем (Иоанна 10:10).
Павел: Познай Иисуса Христа. Павел, ранее известный как Савл, является настоящим примером человека, жизнь которого радикально изменилась после встречи со Христом. Он преследовал христиан, но после своего обращения стал апостолом Христа. Он является автором 13 книг Нового Завета (возможно, 14, если мы включим Послание к евреям), в которых излагаются важные основы христианской веры, в которую мы верим сегодня.
Жизнь для Павла означает Христа — он полностью посвятил свою жизнь верой в Иисуса, чтобы приносить плоды для Царства Божьего (Галатам 2:20, Филиппийцам 1: 21-22). Его конечная цель — познать Иисуса и испытать силу его воскресения через его страдания и смерть (Филиппийцам 3: 10-11). Жизнь подобна бегу, когда он стремился к награде: нетленному венцу от Господа в судный день (1 Коринфянам 9: 24-25, 2 Тимофею 4: 7-8).
7 аспектов смысла (цели) жизни согласно Библии
1.Чтобы показать славу Божью. Из всего творения только люди были созданы по образу Творца. Первое благословение Бога для человечества — это плодородие, чтобы размножаться, наполнять землю и управлять ею (Бытие 1: 26–28, Псалом 8). Заметьте, что работа — это благословение от Бога, а не проклятие. Наша работа должна быть проявлением величия Бога, и поэтому во всем, что мы делаем, мы должны делать это с правильным мотивом: во славу Божью (1 Коринфянам 10:31).
2. Искать Царства Божьего. Нашим первым и главным приоритетом в жизни является стремление к Царству Божьему и Его праведности, чтобы делать то, что Он хочет от нас (Матфея 6:33). Мы молимся согласно воле Бога, когда просим, чтобы Его Царство пришло и чтобы Его воля исполнилась на земле, как на небе (Матфея 6:10). Царство Божье — это жизнь в истине, мире и радости через работу Его Духа в наших сердцах (Римлянам 14:17).
3. Провозглашать дела Божьи. Прежде чем познать Христа, люди живут пустой, греховной жизнью.Но как только мы уповаем на Христа, через Его работу на кресте, Бог освобождает нас от рабства греха, спасает от вечной смерти, и нам дается новая личность, чтобы провозглашать чудеса, которые Он совершил (1 Петра 1: 18-19, 2: 9).
Мы уникально созданы Богом и наделены природными талантами и способностями для совершения добрых дел, которые Бог призвал нас делать (Ефесянам 2:10).
4. Возрастать в познании Бога. Конечная цель стремления человека к мудрости и знанию — постичь Бога, величайшего из всех (Притчи 9:10).Поскольку мы верим во Христа, мы рождаемся свыше и становимся новым творением (2 Коринфянам 5:17).
Наше желание обновляется: всегда чтить и угождать Богу, приносить добрые плоды и лучше знать Его (Колоссянам 1:10). Знание Бога побуждает нас поклоняться Ему и любить Его еще больше.
5. Верить в Слово Божье. Зная, что Иисус является совершенным представителем Бога, лучшее, что мы можем сделать в жизни, — это верить в Него. Иисус — Слово Божье (Иоанна 1: 1), Начало и конец, Всемогущий Бог (Откровение 1: 8).Нам нужно не только знать его, но и верить в него, потому что вера помогает нам, когда мы не можем понять.
Сам Иисус сказал, что вера в Него — единственная работа, которую Бог хочет от нас (Иоанна 6:29). Пребывая в Нем, источнике благодати и истины (Иоанна 1:14), мы продолжаем жить верой в силу Божью (Римлянам 1: 16-17). Вера во Христа означает, что у нас есть все, что нам нужно.
6. Делиться любовью Бога. Библия говорит нам жить с вечными ценностями: верой, надеждой и любовью (1 Коринфянам 13:13), которые можно найти только во Христе.Поскольку мы исполнились любовью Бога, мы также должны делиться ею с другими, неся бремя друг друга (Галатам 6: 2) и ученичество (Матфея 28: 18-20).
Естественно, мы родились с эгоизмом, однако благодаря Его любви мы сверхъестественным образом превращаемся в нового человека с движимой Духом способностью любить Бога и других (Луки 10:27). Любовь Бога ( агапе, ) безусловна, и на протяжении всей этой жизни мы учимся любить так, как Он любил нас (1 Иоанна 4: 8).
7.Подражать Сыну Божьему. Это кульминация всех наших жизненных целей. Здесь греховные желания человечества быть подобными Богу (Бытие 3: 5) заменяются божественным призывом подражать Его Сыну, Иисусу Христу (Матфея 5:48). Мы являемся отражением славы Божьей, созданной по Его образу и преобразованной Духом в Его подобие (2 Коринфянам 3:18).
Жизнь — это процесс становления все более и более похожим на Христа, в котором мы проявляем свою стойкость, устремляя взор на Него, автора и завершителя нашей веры (Евреям 12: 1-2).
Что это означает
Смысл жизни, согласно христианской вере, в конечном итоге заключен в Иисусе Христе. В нем на вопросы об идентичности, происхождении, значении, цели и судьбе дается глубокая надежда. Мы — возлюбленные дети Бога, созданные нашим Небесным Отцом, чтобы отражать Его славу, ходить в Его любви и исполнять Его волю в нашей жизни.
Жизнь на Земле — это путь нашего преобразования, чтобы стать более похожими на Иисуса, Который избавил нас от зла, греха и смерти, до славного дня, когда мы проведем с Ним вечность.
Фото: Unsplash / Шивам Сингх
Смысл жизни по мнению Виктора Франкла
Написано и проверено психологом Валерия213 15 ноября 2021 г.
Последнее обновление: 15 ноября 2021 г.
Смысл жизни по словам Виктора Франкла заключается в найти цель и взять на себя ответственность за себя и других людей. Имея четкое «почему», мы можем ответить на все жизненные вопросы «как».Только чувствуя себя свободными и уверенными в цели, которая нас мотивирует, мы сможем сделать мир лучше.
Тем не менее, мы знаем, что нет более сложного вопроса, чем «смысл жизни». В таких вопросах иногда есть философские, трансцендентные и моральные нюансы, поэтому мы часто придерживаемся классических высказываний, таких как « будь счастливым и делай других счастливыми », « будь доволен », « твори добро ».
Однако многие задают вопрос и ощущают глубокую экзистенциальную пустоту. В чем для меня смысл жизни, если все, что я делаю, — это работа, если все мои дни одинаковы и если я не нахожу смысла ни в чем вокруг себя? Столкнувшись с этой очень распространенной ситуацией, известный невролог, психиатр и основоположник логотерапии Виктор Франкл дал ответ, который побуждает к конструктивным размышлениям.
Люди не обязаны определять смысл жизни в универсальных терминах. Каждый из нас будет делать это по-своему, начиная с себя, со своим потенциалом и опытом, открывая себя каждый день.
Более того, смысл жизни может не только отличаться от одного человека к другому, но мы сами можем иметь разную жизненную цель на каждом этапе жизни. Важно, чтобы каждая цель доставляла нам удовлетворение и воодушевление вставать по утрам и бороться за то, что мы хотим.
Смысл жизни по мнению Виктора Франкла
Виктор Франкл опубликовал в 1945 году « Человек в поисках смысла ». Он вдохновил миллионы людей на определение своего отношения к жизни.Франкл пережил ужасы Холокоста, будучи узником Освенцима и Дахау. Он преодолел это стоически, и это положило начало очень личному виду терапии, логотерапии.
Кроме того, потеря его семьи прояснила для него, его цель в этом мире была просто помочь другим найти свою цель в жизни . Однако у него было три очень специфических момента:
- работа изо дня в день с мотивацией
- жить с точки зрения любви
- всегда мужество в невзгодах
Давайте посмотрим, как это может помочь нам найти цель в жизни.
Живите с решением
Мы все видели раньше: p людей, которые справляются с очень тяжелыми обстоятельствами с позитивом и мотивацией. Как они это делают? Все мы разделяем одни и те же биологические структуры, но то, что отличает нас от этих людей, — это их решимость. Решимость достичь чего-то, преодолеть все препятствия и бороться за то, чего мы хотим, какими бы маленькими они ни были, поможет нам прояснить нашу цель на каждом этапе нашей жизни.
Даже если вы страдаете, четко обозначьте свою цель, и вы обретете силы
Виктор Франкл объяснил в своей книге «Человек в поисках смысла», что нет ничего хуже, чем осознание того, что наши страдания бесполезны.Однако, если вы сможете найти цель, вы не просто перенесете свои страдания; вы будете рассматривать это как вызов.
Измени свое отношение, чтобы найти более высокий смысл в жизни
Иногда жизнь несправедлива. Иногда мы работаем до изнеможения и вкладываем все свое время, энергию, эмоции и сердце… но судьба только вручает нам неудачи. Все наши мечты разваливаются. Отступление более чем логично и понятно, но когда это происходит, у нас есть два варианта.
- Во-первых, предположить, что мы не можем изменить то, что с нами происходит, и быть пленниками обстоятельств.
- Во-вторых, признать, что мы не можем изменить то, что с нами произошло, но мы можем изменить свое отношение к этому.
Следовательно, мы должны занять более сильную, стойкую и более позитивную позицию, если мы хотим найти более обнадеживающий и более высокий смысл жизни.
Смысл жизни не задается, это чувствуется
Все ответы на наши жизненные вопросы не на внешнем. Книги не объяснят, в чем смысл нашей жизни, равно как и наша семья или друзья.На самом деле все наши потребности, страсти и экзистенциальные цели находятся внутри нас. И они будут меняться со временем по мере нашего взросления и роста.
В заключение, нет ничего важнее понимания свободы и ответственности, которые мы имеем для определения наших собственных целей. Смысл жизни Виктора Франкла заключается в том, что каждую секунду каждого дня — это шанс принять решение, — решение, которое определит, будем ли мы подчиняться обстоятельствам, как марионетка в руках судьбы, или если мы будем действовать с истинным достоинством, прислушиваясь к своему истинному «я».
Это может вас заинтересовать …
11 различных взглядов на смысл жизни
«Смысл жизни» постоянно подвергается сомнению с самого начала человечества, и нам, студентам, все время говорят как жить своей жизнью. Мы молоды, и я знаю, что еще не знаю ответов на вопросы к жизни, а вы? Существуют различные философии — некоторые популярные, некоторые очень непопулярные, которые уже высказали свое мнение о том, что такое так называемый «смысл жизни » .Итак, пока мы все еще ищем ответы, вот 11 самых известных теорий о цели жизни:
1) Получать удовольствие
Согласно гедонистической теории, погоня за удовольствием и потворство своим слабостям — это самое важное.
2) Чтобы быть хорошим
Теория Аристотеля о цели жизни состоит в том, что люди должны делать все с определенной целью, и эта цель должна быть хорошей.
3) Чтобы узнать больше
В платонизме смысл жизни заключается в достижении высшей формы знания.
4) Следование воле Бога
В теизме Бог создал мир с целью, придавая значение людям. В свою очередь, люди должны следовать воле Бога как цели своей жизни.
5) Делать что-либо
Согласно нигилистической теории, жизнь не имеет смысла, а ценности безосновательны. Следовательно, в жизни нет смысла.
6) Чтобы быть самодостаточным
[rebelmouse-proxy-image https: // media.rbl.ms/image?u=%2Ffiles%2F2016%2F10%2F23%2F636127782872561330958933847_self%2520sufficent.gif&ho=https%3A%2F%2Faz616578.vo.msecnd.net&s=596&h=0cabccb8b78d8d05414e3b1c607f8811cf4034c0504ead2ac7a66b36f5274b82&size=980x&c=2312721292 crop_info = «% 7B% 22image% 22% 3A% 20% 22https% 3A // media.rbl.ms / image% 3Fu% 3D% 252Ffiles% 252F2016% 252F10% 252F23% 252F636127782872561330958933847_self% 252520sufficent %.gif% 26Faz8. .msecnd.net% 26s% 3D596% 26h% 3D0cabccb8b78d8d05414e3b1c607f8811cf4034c0504ead2ac7a66b36f5274b82% 26size% 3D980x% 26c% 3D2312721292% 22% 7D «expand = 122-
. достаточно, и овладеть своими умственными способностями.
7) Принимать решения и быть позитивным
В экзистенциализме цель человека — действовать максимально свободно и ответственно.
 Заботиться о природе
Заботиться о природе
Согласно натуралистическому пантеизму, смысл жизни — заботиться о природе и окружающей среде.
9) Действовать в личных интересах и на общее благо
Гуманистическая теория о цели жизни утверждает, что жизнь очень личная, поэтому цели каждого человека будут разными.






 В то время как задача специальных герменевтических теорий формулируется как методологические правила реконструкции и понимания авторского смысла текста, целью философской герменевтики является анализ языкового опыта как особой формы человеческого отношения к миру (Луков В. А. Теория персональных моделей в истории литературы. — М., 2006; Hirsch E. D. The Aims of Interpretation. — Chicago, 1976; Betti E. Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften. — Tübingen, 1967).
В то время как задача специальных герменевтических теорий формулируется как методологические правила реконструкции и понимания авторского смысла текста, целью философской герменевтики является анализ языкового опыта как особой формы человеческого отношения к миру (Луков В. А. Теория персональных моделей в истории литературы. — М., 2006; Hirsch E. D. The Aims of Interpretation. — Chicago, 1976; Betti E. Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften. — Tübingen, 1967).


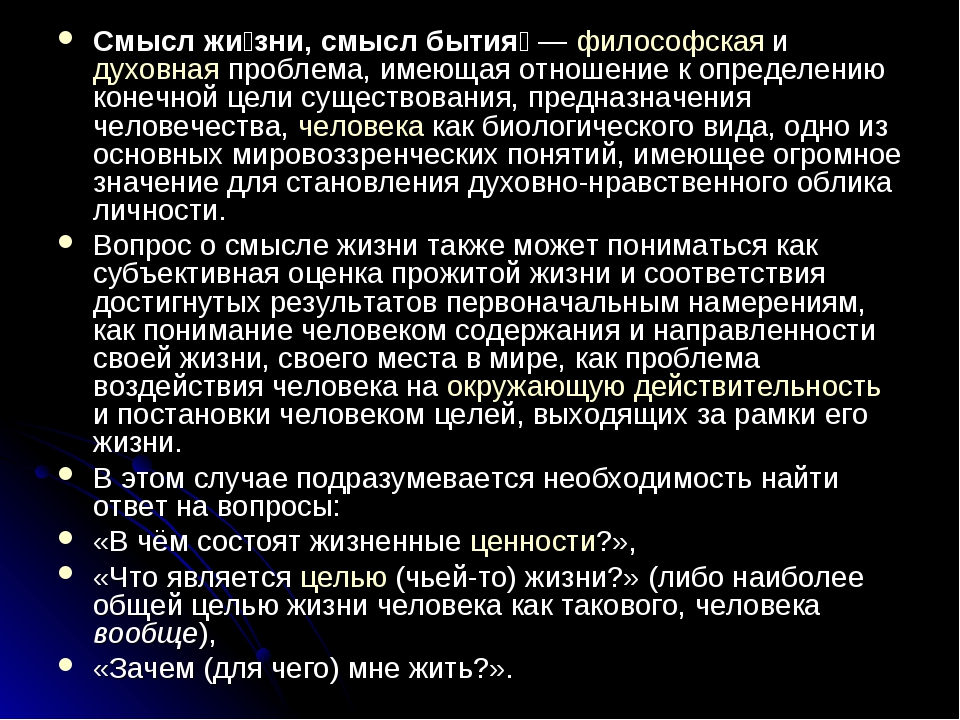 Это «высказывание» и есть смысл знака, который вводит указываемые предмет или явление в общий порядок вещей и событий. Тем самым акт обозначения связывается с системой языковых смыслов, делает его семантически правомочным.
Это «высказывание» и есть смысл знака, который вводит указываемые предмет или явление в общий порядок вещей и событий. Тем самым акт обозначения связывается с системой языковых смыслов, делает его семантически правомочным.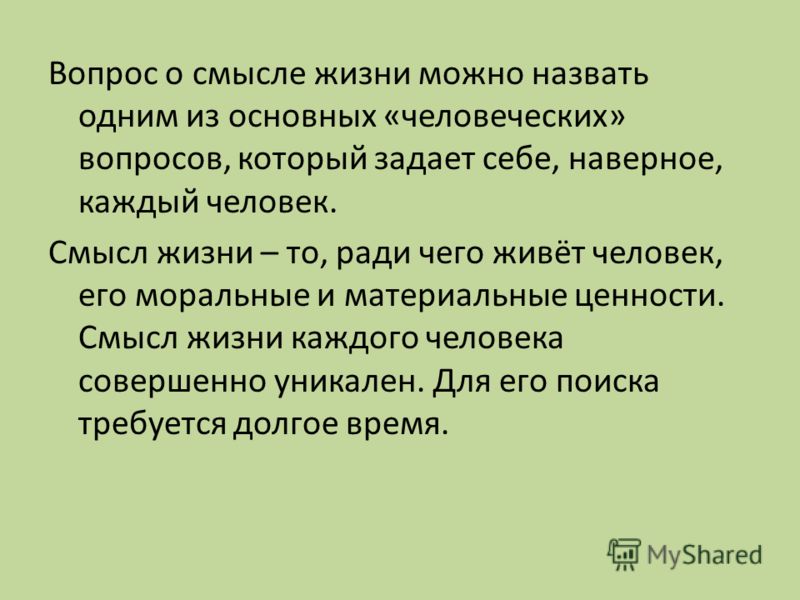 Ключом к пониманию личности для Адлера является смысл жизни, складывающийся у индивида уже в раннем детстве.
Ключом к пониманию личности для Адлера является смысл жизни, складывающийся у индивида уже в раннем детстве.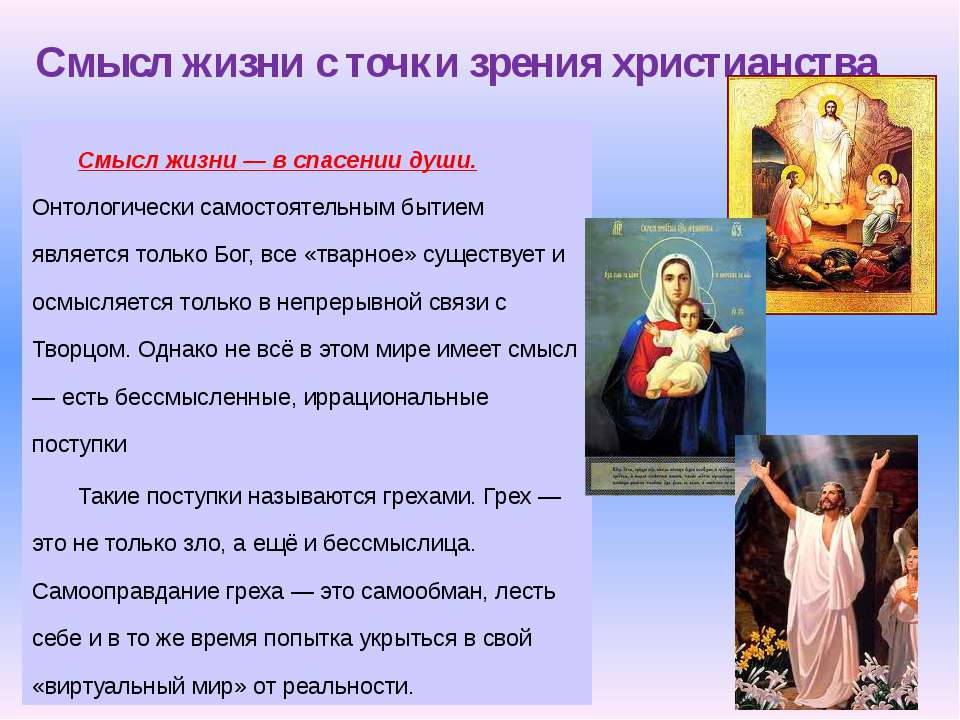 Смысл как результат индивидуальной интерпретации и категоризации ситуации рассматривается в информационном психоанализе Э. Петерфройнда, психоаналитической феноменологии Дж. Атвуда и Р. Столороу, теории личностных конструктов Дж. Келли и его школы, интеракционистской концепции личности Д. Магнуссона и его сотрудников. Феноменологический подход к анализу смыслов, извлекаемых из непосредственных переживаний, развит в психотерапии Ю. Джендлина. В теории самоорганизованного обучения Л. Томаса и Ш. Харри-Аугстейна говорится в частности о совместных смыслах, возникающих в пространстве диалога. Осмысление человеческих действий в широком социальном контексте характерно для этогенического подхода Р. Харре, «социальной экологии» Дж. Шоттера.
Смысл как результат индивидуальной интерпретации и категоризации ситуации рассматривается в информационном психоанализе Э. Петерфройнда, психоаналитической феноменологии Дж. Атвуда и Р. Столороу, теории личностных конструктов Дж. Келли и его школы, интеракционистской концепции личности Д. Магнуссона и его сотрудников. Феноменологический подход к анализу смыслов, извлекаемых из непосредственных переживаний, развит в психотерапии Ю. Джендлина. В теории самоорганизованного обучения Л. Томаса и Ш. Харри-Аугстейна говорится в частности о совместных смыслах, возникающих в пространстве диалога. Осмысление человеческих действий в широком социальном контексте характерно для этогенического подхода Р. Харре, «социальной экологии» Дж. Шоттера.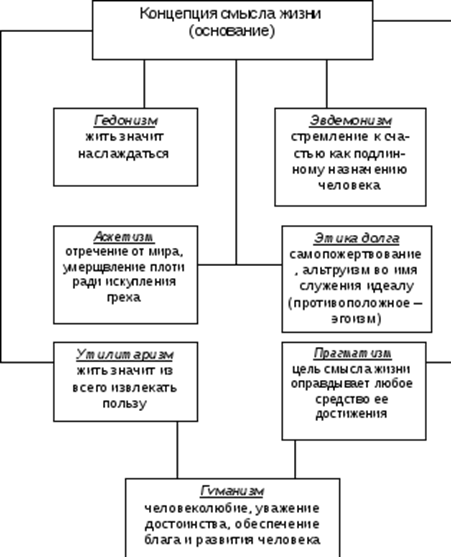
 Заботиться о природе
Заботиться о природе